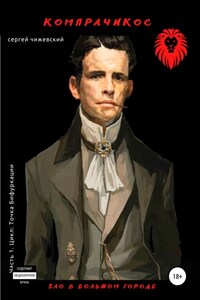Молоденький прыщавый солдатик с развороченным животом наклонился и через кровавые пузыри прохрипел: у—у-уходи!..
Рухнул слева от меня, внутренности от удара выпрыгнули и смешались с рыхлым сырым от крови песком.
Резко завоняло свежим калом и горелым мясом.
Кровь при таком ранении извергается из человека как из банки с отбитым дном – за несколько секунд, человек каменеет, но глаза не гаснут, смотрят вдаль…
Не первый раз я вижу этот взгляд – глаза ещё десять-пятнадцать секунд "живут" на застывшем лице.
А как я уйду?! Обугленная голень, в белом прорезиненном кроссовке, лежит в метре от меня, из неё сочится дымящаяся кровь, а я раздирая горло ору в забитую песком рацию, вызывая «вертушку».
Сгорбившись, укрываясь от пуль, тигриными прыжками подскочил санинструктор в очках с толстыми, как бронестекло, линзами. Приблизив сверкающие всполохами очки к моему лицу, постукивая двумя окровавленными пальцами по обветренным губам, попросил закурить. "Как тебя в армию взяли, с таким-то зрением?" – я внутренне усмехнулся. На войне всегда так – будто не с тобой всё происходит. Санинструктор сплюнул ругательства вместе с розовой слюной, повисшей на подбородке, вспомнил зачем прибежал и закатав окровавленную штанину на обугленном обрубке, стал затягивать жгут над коленом и тут до меня дошло произошедшее, я застонал от боли и ужаса, осознав всю ситуацию.
Санинструктор придурковато ухмыляясь, как уличную девку отхлестал меня по щекам, чтобы сбить истерику. Заряженный лекарством шприц, прямо через ткань, с размаха всадил в бедро целой ноги и с натугой выжал раствор.
Последнее, что увидел, – как очкарик слегка нахмурившись крутит перед собой обрубок в расплавленном кроссовке, бросает мне на грудь и снаряд срезает ему череп до бровей… Сквозь туман наблюдаю, как по чёрному развороченному лицу, в кровавом студне течёт глаз доктора вместе с блестящими осколками, на острых гранях сверкают отблески близких пожаров…
В часть так и принесли: обездвиженное тело и на груди нога в кроссовке, из запёкшейся раны торчит белая обгрызенная кость.
В госпитале постоянно снился первый бой: ждали караван, три дня лежали в раскалённом песке, ходили под себя, под конец я осатанел и с такой ненавистью расстрелял первый рожок, что и не понял, как всё закончилось. Спустились посмотреть, оказалось – караван с бананами и джемом: на всю жизнь сладкого наелись…
…помню, как поедая банан, смотрел на убитого караванщика – грудь прострелена, а в зубах ещё дымится сигарета…
После уничтожения каравана за нами началась охота. Моджахеды поклялись отомстить. Мол, убили невиновных.
Как только до нас дошли эти слухи, прапорщик сказал: пойду писать письмо жене (первый раз в жизни я видел зрачки размером с глаз), через минуту донесся хлопок. Нашли труп в чулане, кровь ещё месяц встречалась то на прутьях веника, то на черенках лопаты. Говорили – пьяный был, даже те, кто вместе с ним год назад кодировался, перед командировкой.
Сдержали клятву моджахеды. Выследили нас.
Двенадцать дней уходили от погони по горам. Сходили с ума от жажды, невозможно собрать слюну и проглотить, будто полный рот песка…ловили черепах – протыкали штык-ножом горло и с напряжением высасывали вязкую и сладковатую кровь. Обескровленных черепах забрасывали как булыжники подальше, но они возвращались и ещё часами ползали вокруг стоянки, и тыкались, как слепые котята, то в сапоги, то в приклады АКМ, то в морду спящего майора.
На пятые сутки связист не выдержал. Пропустил всех вперёд, приставил автомат к горлу и застрелился. С тех пор не люблю связистов, пришлось тащить труп, оборудование, оружие, бронежилет и каску с тремя пробоями изнутри. Никто о нём не сожалел. Знал же, – тела не бросаем. А в расположении, отдохнув и выспавшись, немного загрустили и выпили спирта за помин души: на приглаженной койке лежало два конверта с письмами от мамы…