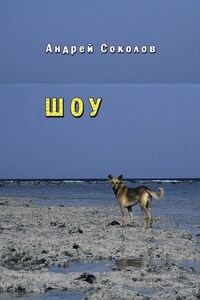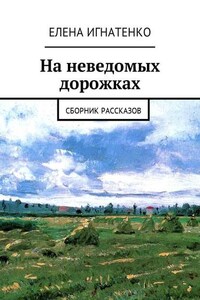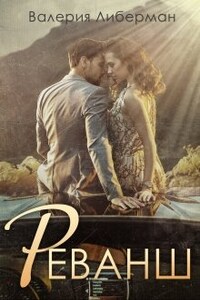В забвенье канувшее время,
Когда мир веровал в Тенгрѝ1.
Людское почитало племя
Владыку Неба и Земли.
– О, Жаратка̀н2! – тянулись руки,
– Услышь детей молящий глас.
Возьми, Всевышний, на поруки,
Дай справедливый свой наказ!
Бог, слыша жаркие молитвы,
В дар горы преподнес, моря
И русла рек неторопливых,
Озера, степи и леса.
Без счета табуны, отары,
Свободу, честь не позабыл.
Дал праведную власть кага̀ну3.
Творца избранник и судьбы
Бумы̀н Ильха̀н4 народом правил,
Связуя с Небом каждый шаг.
Народ в ответ кага̀на славил,
Ему желая всяких благ.
Но мир наш создан многоликим,
В нем солнца свет и мрак ночи.
Добро, зло воедино свиты,
Порой их трудно различить.
Известно, у Тенгрѝ был младший
И своевольный, грозный брат.
Безмерной власти возжелавший,
Страж преисподней мрачных врат.
Обитель вечного покоя
Уж сколь веков тесна ему.
Прельщает взор его иное,
На свет он обменял бы тьму.
Себе Эрлѝк5 не признавался,
Что мучим тягостной тоской.
Досаду пряча, восхищался
И видел в грезах мир людской.
Где солнце на небе сияет
И жизнь бурлит и бьет ключом.
Где ветер тучи разгоняет
И травы стелются ковром.
Эрлѝку зависть душу травит,
Немил бездейственный покой
Во мрачном мире, коим правит
Суровой, твердою рукой.
Не по нутру людей свобода,
Чья жизнь полна земных страстей,
И цвет лазури небосвода,
И шаловливый смех детей.
Им омрачить существование
Дракона верного послал.
Со дня начала мироздания,
Народ чтоб радостей не знал.
Строптивый нрав у Айдаха̀ра6,
Надменность и коварство в нём.
Змей дряхлый, немощный и старый,
Был умысел великий в том.
Чтоб ощутив однажды силу,
Против Эрлика не восстал,
Под чьим приглядом зло творил он.
Поэтому в подмогу дал
Колдуний желчных и ехидных.
Четыре кровные сестры.
И ведьмы те не безобидны,
Стары, ужасны и хитры.
Служили Айдаха̀ру верно,
Поддерживая силы в нём.
Полны дела их яда, скверны,
Рассказ отсюда и начнём.
Древнее всех была старуха,
Прожорливая Жалмауы̀з.
От уха пасть ее до уха,
Нос хищный над губой повис.
Средь, богом и людьми забытых
Болот, в глуши одна жила.
В землянке, в зарослях сокрытой,
И самой злобною слыла.
На ней в заплатах бурых платье
И ветхий, как сама, жилет.
Почти истлевшей шитый гладью,
Из серой ткани кимешек