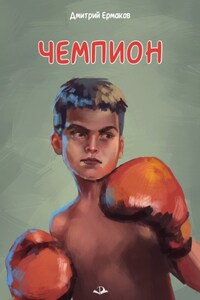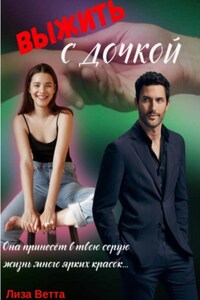Сначала, с грохотом сшибаясь на излуках, уплыли громоздкие льдины, потом ещё долго проплывали серые ноздреватые льдины-оскрёбыши…
Тяжёлое серое небо придавило землю и воду.
И по большой, плоской, придавленной небом воде увозили бабушку…
Снега в ту зиму выпало много, он таял, река разбухала, заливала берега. Теперь уж до следующего льда – из Ивановки, с Красного Берега, в большой мир – лишь в объезд, крюк десять вёрст до моста, либо на лодках и плотах.
А говорят, что и мост снесло…
Васятка стоял на берегу, смотрел, как удаляется плот, посреди которого – гроб. Плот качался, мужики с трудом выгребали поперёк течения. Казалось, гроб вот-вот соскользнёт в воду, и бабушка утонет. За мужиков он не боялся – они живые.
От берега отчалили ещё три лодки, в одной из которых и мама. Все едут прощаться с бабушкой. Там, на том берегу, у церкви, её зароют в землю. И в подтверждение этой неизбежности с того берега, от колокольни, плывёт тягучий печальный звук.
Голые вички затопленных ив торчат из воды, как вешки. Лодки плывут между ними, направляемые гребцами, отяжелелые молчаливыми людьми в тёмной одежде.
– Пойдём-ко, Васятка, домой. Не ровён час – продует, заболеешь, – по-взрослому говорит сестра Полина, ради него оставленная дома.
По грязной, размокшей, истолчённой десятками ног дороге возвращались они к родной избе…
Ивановка – три десятка домов. Пять из них – вдоль реки, остальные двумя рядами уходят вглубь берега. Серебристые, будто инеем подёрнутые, стены бань и сараев; тёмные, высокие, в одной связи с обширными дворами избы с полукруглыми поверху окнами, со скупой резьбой наличников и застрех; драночные чёрные крыши… Всё сейчас хмурое и тяжёлое, как небо…
Снег ещё кое-где остался в тени кустов, под глухими стенами амбаров и бань, но всё в природе уже готово к новому кругу, ждёт сокровенного мига… А бабушка их, Аграфена Ивановна Игнатьева, ушла в другой мир, в ту неведомую жизнь, в которую и верила, и будто бы уже прозревала незрячими в этом мире глазами…
…Бабушка уже давно, сколько он помнил, ничего не видела. Она сидела в своём уголке за печкой, там и спала на лавке, рассказывала сказки да «про прошлую жизнь» сперва внучке Полине, а когда та подросла и всё чаще стала уходить из дома на взрослую уже работу, либо вечерами, с прялкой, к кому из подружек, стала бабушка внуку Васе те же побасёнки бухтить… Ещё песни пела – очень хорошо, и на праздниках, бывало, просили её особо и слушали все сидевшие за длинным столом…
В тот день никого в избе не случилось – отец у них на войне, Полина по своим девичьим делам где-то, мать со скотиной обряжалась. Бабушка сидела тихо и как-то особенно, что-то творилось в ней… Позвала: «Васятка, иди-ко сюда, милой…» Он подошёл, думая, что бабушка расскажет сказку, но она молчала, только гладила его по голове твёрдой сухой ладонью. «Бабушка, а спой песню». – «Не до песен мне сегодня, милой». – «А хочешь, я тебе стопочку налью?» – спросил Васятка. Он знал, где стоит у матери бражка, а стопка в доме одна – серебряная, с надписью по кругу: «Выпить пора – ура!». Отцовская, вернее, дедовская ещё, подаренная ему воздвиженским барином в старые годы за что-то… «А и то! Налей-ка мне, Васятка… Больше-то не пивать». Он уже знал действие браги. На праздниках, когда просили бабушку спеть, всегда перед тем наливали.