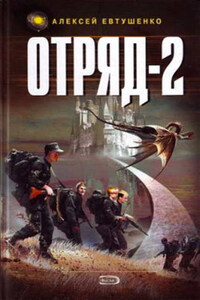– Я уже стар, Чан-чунь.
– Шестьдесят две зимы ты называешь старостью?
– Шестьдесят три, если считать луны, проведенные в утробе матери.
– Хорошо, пусть так. Это возраст мудрости, не старости.
– Мне трудно сесть на коня, сабля всё чаще скучает в ножнах, жены не радуют, как раньше, и кумыс потерял вкус.
– Ты перечислил плотские удовольствия. Мудрецу они не слишком интересны.
– Я не мудрец.
– Да, ты не мудрец. Ты владыка мира, подобных которому не рождалось на земле. Чтобы идти этим путём, нужна жизненная сила, которая выше иной мудрости. Поэтому я здесь – поучиться у тебя. Хотя тебе шестьдесят два, а мне семьдесят шесть. Или семьдесят семь, если учитывать луны в утробе матери. Да, семьдесят семь, мне нравится это число. Оно состоит из двух семерок, что делает его вдвойне магическим, – Чан-чунь тихо засмеялся, показывая крепкие желтоватые зубы, и Чингисхан почувствовал укол зависти – у даосского монаха зубов было явно больше.
Кажется, этот разговор был вчера. Но на самом деле прошло почти три года с тех пор, как Чингисхан отправил Чан-чуня домой, в Китай.
Они общались недолго, но Темучин (Великий Каган всегда помнил имя, данное ему отцом при рождении) часто вспоминал часы и дни их бесед.
Особенно теперь, когда стремительный водоворот времени ещё сузился и ускорился. Хотя, казалось бы, куда уж быстрее?
– Время похоже на воронку, водоворот, – говорил мудрый Чан-чунь и чертил палкой на песке перевернутый треугольник. – В начале жизни человек скользит по великому кругу, и движение кажется ему медленным, едва заметным. Но с годами круги сужаются, и скорость вращения возрастает. Быстрее, быстрее, ещё быстрее! До тех пор, пока воронка не переходит в узкую горловину, куда человек стремительно падает. Эта горловина и есть то, что мы называем смертью.
– И что потом?
– Опять воронка. Только перевернутая, – монах чертил под первым треугольником второй – так, что изображённая фигура напоминала песочные часы. Сначала быстро, потом всё медленнее и медленнее. До тех пор, пока круг не станет таким широким, что движение по нему будет занимать вечность.
– Это и есть бессмертие?
– Да. Это и есть бессмертие.
– Красиво. Но меня интересует эта жизнь, – Чингисхан забрал палку у собеседника и ткнул в верхнюю часть двойной воронки. – Здесь. Есть способ избежать падения в горловину?
Монах подумал, вздохнул, поднял глаза на владыку мира.
– Есть, но тебе он не подходит. Хотя учитель моего учителя, старейший из Восьми Бессмертных, великий Чжунли Цюань, прежде чем познать дао, научиться искусству врачевания и воскрешения мертвых, был боевым генералом и выиграл много сражений…
Тот путь, который предложил даос, не устроил Чингисхана. Он был слишком длинным, даже сам Чан-чунь не успевал им пройти. А главное – не соответствовал целям, которые ставил перед собой Темучин. Владение миром было для него важнее бессмертия. Последнее рассматривалось только как инструмент для достижения первого.
Мечта, – в ней было все дело.
Человек должен делать всё возможное, чтобы осуществить свою мечту. А иначе зачем жизнь и даже бессмертие?
Его империя уже превосходила по величине империю Александра Великого и даже ту, что веками строили римляне.
Но этого было мало.
Чингисхан мечтал о землях, лежащих далеко-далеко на Западе, за Русью. Только победив кичливых европейских правителей, которые мнили себя прямыми наследниками римских цезарей, создав империю, раскинувшуюся на сотни и сотни конных дневных переходов от океана до океана, можно считать, что мечта сбылась.
Но ему не хватало времени.
Человеческая жизнь слишком коротка для осуществления подобной мечты. Значит, её следует удлинить. Но как? Он перепробовал всё, до чего только может дотянуться человек, облечённый его властью и его упорством.