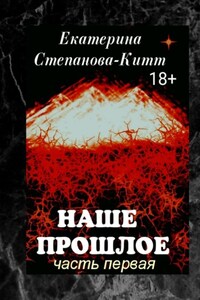Дорога пестрела солнечными пятнами – круглыми и угловатыми, будто кто-то рассыпал в тени содержимое кошелька. Ветер нёс с моря солёную свежесть, но не спасал от жары.
Неаполь. Про себя она считала шаги, вслушиваясь в мелодию звуков, в изысканный ряд слогов. Не-а-поль.
Нет, не так, конечно же. Napoli.
– Ciao, bella! Dove vai?[2]
Она не стала оборачиваться, почти уверенная, что обращаются не к ней.
Napoli. Красиво, как море и небо полоумно-синего цвета – с чайками наперевес. Как молочная пенка, остающаяся на стенках чашки от капучино. Как этот ленивый день.
Как вообще вся Италия.
– Ciao, bella! – настойчивее, с местным гортанным мурлыканьем в говоре. – Bella giornata, vero?[3]
Она немного ускорила шаги. До чего жарко.
Африканец, продававший шейные платки и палки для селфи у входа в кафе, белозубо ей улыбнулся. Мальчишки гоняли по парковке мяч – конечно же, с малопонятными диалектными воплями. Кривоносый мужчина, не отставая, шёл сбоку от неё.
– Dove vai? Come ti chiami?[4]
Хороший вопрос. Удивительно, что за последние дни собственное имя не пропало из памяти – не растаяло, как тает дивно сливочное мороженое со вкусом нутеллы или нежнейший закат над Везувием.
Чуть скривив губы, она качнула головой и почти побежала.
– Scusi[5]…
– Perché? – искренне удивился мужчина. В ухе у него качалась серьга, а глаза из-за синяков казались чуть подведёнными. Лет сорок, не меньше. Второй итальянец, пытающийся с ней познакомиться. Не так уж плохо, наверное, – если не впадать в панику. – Dimmi “scusa”! Posso parlare?[6]
– No.
– Perché?
Ей не понравилась такая настойчивость. Солнце палило беспощадно, а до ближайшего людного места – до Пьяццы Плебисчито – было ещё довольно далеко.
Сказать: sono fidanzata[7]? Выдумать, будто у Пенелопы есть свой Одиссей? Здесь ведь лучшее место, чтобы выдумывать.
Себя, например.
Она снова воспроизвела глуповато-извиняющуюся, типично туристскую улыбку.
– Scusi, no.
И ринулась в толпу – туда, где розовели стены Палаццо Реале, обросшие строительными лесами. Мужчина засмеялся, продолжая шагать за ней.
Ну что ж, сходить с ума – так лучше по-итальянски, до конца, верно?..
– Урания, – сказала она, кусая губы от смеха. Подведённые глаза обеспокоенно сузились. – Mi chiamo Urania. Piacere.[8]
Теперь трудно было сказать, с чего всё началось.
Её исследование, посвящённое странной и немного смешной для постороннего уха, истинно по-филологически высоколобой проблеме, двигалось рвано, но стремительно. Когда-то, в начале, ей искренне нравилось – а затем врождённая графомания просто напоминала о себе вежливым стуком в дверь, как бедная родственница.
Письмо доставляло ей странное, почти физическое удовольствие. От детских сказок со словами, разделёнными тире (зачем тире – чтобы не скатиться в вязь, подобно арабам?..), кривая тропинка привела к фэнтези, которое филфак сдобрил порочными красками модернизма, психоанализа и потока сознания. Безумное сочетание, иногда напоминала она себе. Безумное и безвкусное.
Безумное.
Трудно было сказать, с чего всё началось – и как продвигалось, росло раковой опухолью, неприметное для близких и дальних. Её тексты, даже научные, оказались бредом шизофренички. Вопреки соционическим тестам, результаты которых давали ей слишком гордое имя Достоевского, она из автора превратилась в героя. В Голядкина с раздвоившейся личностью? В юродивую Марью Лебядкину?
Что ж, почему бы и нет. В «Бесах» её всегда болезненно восхищал Ставрогин. Мысленно она называла его Николя, будто старого жутковатого друга.
Магистерская диссертация о диалоге культур в поэзии и прозе никому не ведомого кружка авторов девятнадцатого века – какое красивое прикрытие для неприглядной правды. От правды так воняло банальностью, что она долго отворачивалась с брезгливостью сноба. Но потом (как всегда) запах разложения обострился, и она уже не могла отворачиваться. Правда состояла всего лишь в том, что она – грызущий ногти невротик. Анорексичка, потерявшая половину веса за пару лет. Вовсе не «перспективный молодой учёный», а урод, пребывающий в вечном депрессивном синдроме.