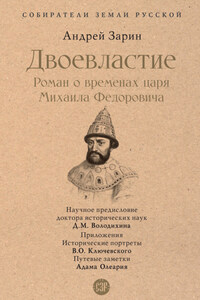Августа 25–го 1669 года с раннего утра в городе Астрахани царило небывалое оживление. Со всех сторон народ торопливо шел на берег Волги и там толпился у пристани.
На лицах всех было видно крайнее любопытство, соединенное с каким‑то страхом.
– Ведун, бают, – говорила одна женщина другой, – молвит этакое слово, ан и сгинул!
Другая женщина кивнула только головою, видимо нисколько не удивленная рассказом, и сказала:
– Муж – от говорит: ни ружье, ни пушка не берут. Пуля вдарит и отскочит. Заговор, слышь, у него такой: и от пули, и от меча…
– Есть такой заговор, – подтвердила первая женщина, – баушка Ермилиха говорила, что есть…
– Пропустите, старушки Божие! – толкая их в стороны, сказал здоровый детина в колпаке на затылке. – Батюшку повидать охота!
– Ах твои бесстыжие глаза! Пес окаянный! – заругались женщины. – Нешто мало дороги тебе?..
– Подвинься, тетка! – закричал парнишка, толкая женщину в спину.
– Я те задам: подвинься! Щенок!
Но народ надвигался волною, и обе женщины волей – неволей должны были двинуться со всеми.
– И богачества, я те скажу, у – у! – говорил один стрелец другому.
– Видел?
– Видел! У меня братан рыбачит. Так я с им на челноке к ним.
– Ну?! – удивился слушатель.
Подле них тотчас собралось несколько слушателей.
– Верно слово, – побожился стрелец и продолжал: – Они тута у Болдинского устья и стали.
– Ну!
– Пристали это мы к им, к стругу, а они нам: идите, кричат, штоли. Мы и вошли!
– Ишь! – с завистью воскликнул кто‑то из слушателей. – И много видел?
– А ты не перебивай! – наставительно сказал в толпу стрелец и продолжал: – Вошли мы это. Господи Владыко! По бортам‑то ковры все, ковры. На корме подушки алые. Груда! Веревки это – из шелка все. Вот ей – Богу!.. – побожился стрелец.
В толпе слушателей послышались завистливые вздохи.
– Что и говорить: житье! – раздался чей‑то голос.
– Ни тебе бояр, ни тебе воевод. Живи! – подхватил другой, а стрелец все продолжал свой рассказ:
– Кафтаны на них все из бархату либо их парчи, а на шапках камни самоцветные. Горят…
– Родимые, пропустите, Бога для! – послышался жалобный бабий голос. – Дыхнуть не могу! Затиснули! Оставь, озорной! – завизжал тот же голос.
– Го – го – го! – загрохотали кругом.
И среди общего гама резким фальцетом раздавалось пение слепца:
А и край было моря синего,
Что на устье Дону‑то тихого,
На крутом, красном бережку,
На желтых рассыпных песках,
А стоит крепкий Азов – город
Со стеною белокаменной,
Земляными раскатами, со рвами глубокими
И со башнями караульными…
В это же время, в середине города на площади, подле церкви, в приказной избе сошлись воеводы астраханские, князья Иван Семенович Прозоровский и Семен Иванович Львов, оба в дорогих кафтанах, в высоких гарлатных шапках с тростями в руках. Тут же, в избе, подле аналоя, что стоял перед образом Спаса, сгорбившись, сидели на лавке поп в подряснике, два дьяка приказных, подьячий, пожилой казак, Никита Скрипицын, и бритый перс, купец Мухамед – Кулибек.
– Будут ли? – после долгого молчания спросил тревожно князь Прозоровский.
– И нетерпелив ты, князь! – с укором ответил воевода. – Как же не быть ему, ежели он за мной следом прошел! Коли вот и ему, – он указал на Скрипицына, – сказал и ко мне двух аманатов прислал. Тебе вот, Мухамед, – обратился он к персу, – за сына придется выкуп дать. Пять тысяч! Говорил им. Не слушают!
Перс сложил на груди руки и поклонился:
– Буду давать! Один сын, одна голова! Казны не жалко! Не давай казны, убьют.
– Шутить не будут…
– А награбили? – не без зависти произнес Прозоровский.
Львов только рукой махнул.
Дьяки переглянулись между собою и, ухмыляясь, потерли руки…
– Едут! – вдруг закричал, вбегая в избу, стрелец. Воеводы встрепенулись и приосанились: