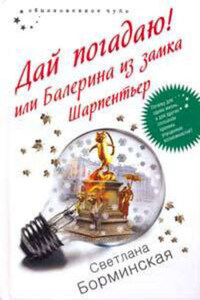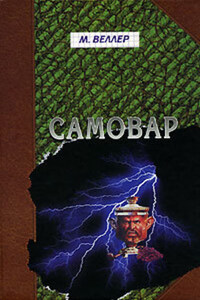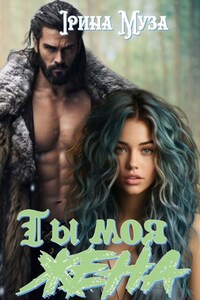– Паслухай, дачка мая, ти здалося? Быццам дед иде…
– Нет, бабушка, тебе показалось.
– Иде дед… Ти чуешь?
– Нет же никого, так что-то… половицы скрипнули.
– Забывацца стала, дачка мая. Памёр наш дед, памёр… Тры гадочки прайшло. Акраз на Паску памёр.
– Я вчера на могилку ходила. Там всё хорошо. Оградка цела. И памятник. Райсоюз поставил.
– А я туды и схадить не змагла. Ножаньки мае, ножаньки… У сыботу занедужыла. Уся хварэю. Цалкам… О-о-ох!
Старая женщина лежала на высоких подушках в цветастых наволочках. Тяжелое ватное одеяло с прошивками сползало на пол одним краем. Укрытая по пояс, она положила темно-коричневые от загара и работы руки вдоль тела, будто отдельно от себя, ни разу за весь вечер не пошевелив ими.
Алеся сидела рядом, легонько поглаживая пальцы умирающей. В крупных узлах, желтовато бледные суставы припухли, видно, боль в них заставляла Марию покусывать губы. Один раз она слабо застонала…
На ней была просторная блуза из неяркого, в мелкий горох ситца. Сквозь глубокий разрез рукава голубоватой белизной просвечивала кожа – от запястья до локтевого сгиба. Она была тонкой и прозрачной, с едва заметной россыпью солнечных веснушек. Кожа на щеках была такой же свежей и гладкой.
Алесю душили злые, горькие слезы обиды – почему, ну, почему Мария должна умирать? Кто издал такой несправедливый закон?
Она мечтала о тех временах, когда после окончания университета обзаведется своим жильем, а рядом обязательно будет церковь, и возьмет к себе Марию.
И сейчас все её мечты рядом с этим, всё ещё красивым, но безвозвратно отходящим телом рушились. Родненькая ты моя, – в глухой тоске звала она, поглаживая слабую руку Марии.
Мария лежала тихо и спокойно, погруженная в свои видения.
Алеся, по своей давней детской привычке подошла к большому развесистому фикусу – за ним, в красном углу, были иконы. Она опустилась на колени. Лик богоматери на старой иконе в простом жестяном окладе был изучен до каждой трещинки на потемневшей от времени краске. Алеся смотрела без смысла, без веры, с одним только тщетным желанием – воскресить в сердце ту надежду, которая возникала всегда, когда она в тайной молитве обращалась к небесной заступнице.
Икона была слабо освещена лампадкой, от этого глаза богоматери казались ещё печальнее. Скорбь в них была разлита так густо, что взор небесной царицы потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности.
Она быстро встала и отошла к окну. Мария не должна видеть её мокрых глаз.
Но умирающая смотрела перед собой и что она там видела, не мог знать никто.
Умирают, в конце концов, все, а всеобщему не должно быть сострадания – так учит философия. Но это общее знание сейчас не было даже слабым утешением в её конкретном, личном горе – Мария уходила от неё навсегда…
Туго накрахмаленная занавеска в затейливых узорах ришилье – когда-то они их, эти занавесочки вместе делали.
Слегка подсиненные тюлевые гардины пахли чистотой и свежестью цветущего сада. Мария каждую неделю всё перестирывала, в субботу мыла полы, перекладывала бельё в шкафах, чтобы не было моли. И, как раз после бани, вдруг почувствовала себя так плохо, что попросила соседей – у них был дома телефон – срочно позвонить внучке в Москву.
Мария лежала тихо и дышала ровно – наверное, спала. Алеся прошла в залу. Здесь также всё сияло чистотой и свежестью, и только на одном подоконнике, там, где была открыта форточка, лежал тонкий слой сероватой пыли.
Прижавшись горячим лбом к стеклу, она ковыряла потрескавшуюся и кое-где отошедшую от рамы замазку. Во дворе голодные куры растревожено кудахтали. Петух, изогнув спину, мелко семенил вдоль ворот, сильно припадая на левую ногу и опустив большое пестрое крыло до самой земли.