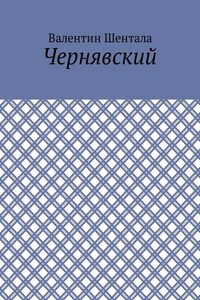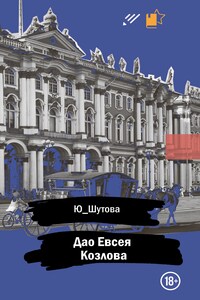Семейные торжества Ештокины любили отмечать с размахом.
В день сорокапятилетия супруги Павел Федосеевич поднялся рано и, съев сготовленный на скорую руку завтрак, почти сразу с усердием принялся помогать ей на кухне. Вскрывать консервы со шпротами, прокручивать через мясорубку сдобренные хлебом и луковыми кольцами мясные куски, нарезать кубиками очищенный картофель – всё это выходило у него хоть и не слишком сноровисто, слегка неуклюже, по-мужицки, но быстро.
Предложение жены Валентины отпраздновать день рождения в кафе Павел Федосеевич отверг начисто:
– Да где сейчас человеческое заведение-то найти?! – воскликнул он, даже возмутившись от такой несуразной идеи. – “Стекляшка” наша на Заводской? Брось! Убогое меню, обшарпанный зал, ленивые, хамоватые официанты… Ресторан “Причал” на набережной? Тоже – ну его! Там теперь одно жульё собирается. Криминальный элемент… К тому же и столики небось бронируют только своим, по блату… Дома справим твой юбилей, Валя. Я помогу.
Валентина настаивать не стала, вполне удовлетворённая прозвучавшим заверением. Её полные, чуть вывернутые губы разомкнулись, и в стройном, выбеленном зубном ряду прямо посередине, словно неаккуратно наложенная заплата, неестественно зазолотилась крупная коронка.
– Помогай, – благожелательно изрекла она и прибавила с откровенностью. – Не хочется в свой праздник полдня стоять у плиты.
Она и сама не хуже Павла Федосеевича знала, что немногочисленные кафе и рестораны их города либо совсем непрезентабельны и захудалы, либо в них вечно не сыскать свободных мест.
Сын их, восемнадцатилетний Валерьян, поднялся значительно позже родителей, часам к десяти. Под звуки громко вещавшего из кухни радиоприёмника, он, ещё протяжно позёвывая и ковыряя пальцами в уголках глаз, протопал от своей комнаты до ванной.
Валерьян, несмотря на множество роднящих его и с отцом и с матерью черт, общим обликом своим всё же мало на них походил. Несмотря на унаследованную от Павла Федосеевича широкоплечесть, в осанке его не ощущалось ни самоуверенности, ни задиристой юношеской позы. Взор светло-серых, с лёгкой зеленцой, глаз не был по-житейски сметлив и одновременно покладист, как взор матери. Валерьян глядел на людей настороженно и вместе с тем пытливо, выдавая в себе натуру не слишком уверенную, но любознательную и незамкнутую. Спина его, ровная от природы, при сидении или ходьбе несколько сутулилась, словно бы он нёс на плечах возложенный против его воли груз. Возможно, оттого он выказывал в иных случаях привычку слегка вздёргивать правым плечом, словно бы сбрасывая с себя что-то, мешавшее по-настоящему войти во вкус какого-нибудь обстоятельного разговора или же в азарт спора. Сын Ештокиных был росл, русоволос, мягок лицом, но вместе с тем казался ещё очень невзросл, угловат.
Умывался Валерьян неторопливо и неаккуратно. Шумно ополаскивал рот, оглаживал влажными ладонями руки до локтей, отфыркивался, тряс головой, забрызгивая капельками тёплой воды висящее над раковиной настенное зеркальце. Тяга к долгому полосканию в тёплой воде развилась в нём с зимы, когда из-за лопнувших в подъезде отопительных труб приходилось мёрзнуть неделями, едва согревая комнаты раскалёнными докрасна, но слабенькими спиралями электрообогревателей.
Затем, тщательно протерев за собой брызги, вымытый и посвежевший, он вернулся назад в свою комнату. Одевшись, подошёл к письменному столу, выдвинул верхний ящик, взял со сложенных в стопку тетрадей небольшой обвязанный красной лентой пакет.
– С днём рожденья, мама, – войдя в кухню и обняв мать, произнёс он просто, но сердечно. – Это – тебе.
Валерьян не был велеречив, и учёба на физико-математическом факультете не способствовала развитию в нём такого качества. Мысли, чувства он склонен был выражать лаконично, даже неказисто, словно бы пряча за простотою фраз свою юношескую застенчивость.