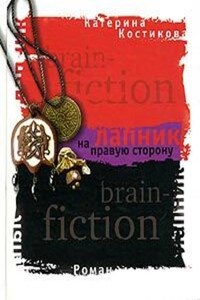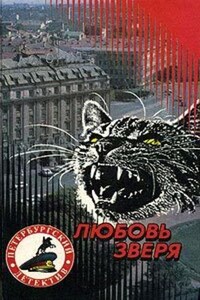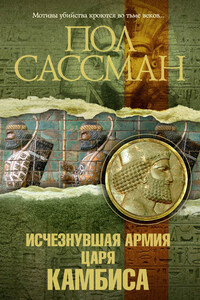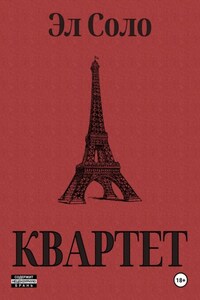Посвящается Людмиле Савиной, которая рассказала мне тысячу потрясающих историй про свой родной город Людиново. Мне осталось только изменить название города
Телефон мигал красным. Прием – ноль. Вольский на всякий случай понажимал кнопки, убедился, что дозвониться никуда не получится, обругал последними словами жадность отечественных мобильных операторов, которым неохота поставить ретранслятор, и кинул бесполезную трубку на сиденье.
Три часа назад он выехал из Коржаковки и сейчас должен был быть где-нибудь в районе Троицка, в получасе езды от Москвы. Однако Троицком и не пахло. Полный бред. По этой дороге Вольский ездил без малого сто раз. Несколько лет назад он купил гектар леса у озера в трехстах километрах от Москвы, поставил финский домик, рубленую баньку, и иногда сбегал туда продышаться и полениться. Топил баню, удил рыбу, смотрел ночью на звезды, слушал, как шебуршат ежи у крыльца…
В свою берлогу Вольский ездил всегда сам, без шофера, и дорогу знал наизусть. Когда щит с приветливой надписью «Добро пожаловать в город Троицк» не появился вовремя, он некоторое время пребывал в недоумении. Когда же вместо приглашения в город фары высветили покосившийся ржавый указатель, где значилось «дер. Хвостово, 12 км», Вольский принялся ругать на чем свет стоит и родные дороги, и осеннюю морось, и себя, дурака, за то, что уехал в непонятное Хвостово, вместо того чтобы рулить себе спокойно домой, в Москву– столицу родины и порт пяти морей.
Он притормозил, включил свет и, полистав карту, взвыл. Деревня Хвостово находилась в двухстах километрах от первопрестольной, при этом совершенно в стороне от маршрута. Поразмыслив, каким волшебным образом его сюда занесло, Вольский пришел к выводу, что во всем виноваты уродские ремонтники, затеявшие латать свою уродскую дорогу. Из-за ремонтных работ под Калугой пришлось делать крюк и пилить в объезд. В итоге он, по всей вероятности, свернул не на той развилке. Выходило, последние два часа Вольский ехал черт знает в какую сторону, в черт знает какое Хвостово. Йес. Замечательно. Теперь он неизвестно сколько будет выгребать из этого Хвостова и припрется домой самое раннее в пять утра. А в половине девятого надо быть на работе, потому что приедут уродские англичане подписывать договор. Лучше не придумаешь.
Обругав все на свете еще тридцать восемь раз, Вольский снова уткнулся в карту и, бубня «пять километров, потом направо, потом восемь, и налево», нажал газ. Машина сыто заурчала и понеслась по щербатой дороге, легонько вздрагивая на колдобинах.
Давно стемнело. Фонарей в этом захолустье, ясное дело, не водилось. В свете фар Вольский видел лишь кусок убитой дороги да темный лес. Он приоткрыл окно, выбросил окурок. В салон потек холодный воздух – был конец октября, примораживало. Вольский подышал, выгоняя из легких табачный дым, и свернул вправо. Через восемь километров – поворот налево, а там уж до московской трассы рукой подать.
Стрелка спидометра замерла на ста тридцати, и он подумал, что все не так уж плохо. В конце концов, погонять по пустой дороге, подышать морозным воздухом, который, казалось, можно кусать, как яблоко, – тоже не последнее дело. Он даже начал было напевать себе под нос какую-то ерунду, но вскоре, в низинке, въехал в такой густой туман, что стало не до пения. Туман выползал из лесу белыми щупальцами, облизывал кусты, клубился под колесами… Поначалу было даже славно – пейзаж в духе передвижников, ночь тиха, в этом роде. Однако вскоре туман сделался плотным, густым, как снятые сливки. Стекла заволокло белым, и Вольский даже асфальта перед собой не видел: казалось, джип не по проселку катится, а плывет по небу в грозовом облаке. Вольский снова приоткрыл окно, и туман, лениво переваливаясь через стекло, потянулся внутрь. Отчего-то стало неприятно, что это – сырое, белесое – забралось в теплую и безопасную машину.