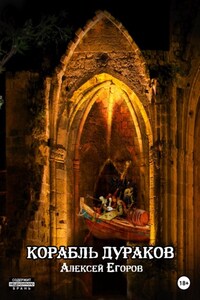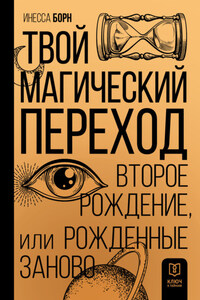Самое неизлечимое горе – воображаемое.
(Мария фон Эбнер-Эшенбах)
Давно это было. В те стародавние времена, когда по окраинам государства Киевского голодными волками рыскали кочевые народы. Для защиты селян и собственного покоя посылал князь в порубежье ратников, заставы ставил. В бесчисленных стычках с вороватыми соседями, которых и соседями-то назвать стыдно, рождалась слава былинных героев и на крыльях молвы далеко разносилась по русским весям. На посадах слагали песни о них. Сам князь киевский Владимир Красно Солнышко пригласил с заставы к столу на именины лучших из лучших – Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Ивановича по прозвищу Муромец.
Византийский басилев посла с подарком прислал. Посол таксебешный – перстней больше, чем пальцев, да борода крашена. А вот подарком угодил. Отменный дар – баба голая, как живая, только из мрамора. Материал сей на Руси не сыскать, да и в Царьграде, должно быть, редкий – настолько, что на руки красотке его не хватило. Не опечалился ущербу князь – с бабы мраморной глаз не сводит, а на жёнку глянет свою да омрачится. Посла византийского чисто задарил – и на пиру ему красно место, и медовуху в его кубок лично подливает, и девки княжьи для него пляшут, и скоморохи вертятся, и былинщики были поют….
А за боярским столом шепоток растёт. Ну, на то они и советники княжьи, чтоб серчать да завидовать. Подзывают княжью челядь и приказывают: «На стол дружинный медов не жалеть, а в пище ограничить». И покатилось веселье за последним столом.
Раздухарился Илья Иванович по прозванию Муромец:
– Всех перепью, всех поборю. Ендовы мало, и жбана мало – дайте бочку – осушу. Потом бороться желаю. Людишки слабы – тащите медведей из зверинца княжьего.
– Уймись, Илюха! – теребит его за рукав Добрыня и гостям. – Вы не подумайте чего. Ну, десяток-другой мужиков сломает – так что по пьянке не быват? А так он добрый – уж поверьте мне.
И ну народ целовать. Сперва он девок, меж столов сновавших, ловил и в уста сахарные челомкал. А потом всех подряд почал.
Народишко-то поначалу нехотя отмахивался:
– Уймись, Добрынюшка. Будет тебе, Никитич.
А потом опасаться начал – уж не поменял ли богатырь пристрастия к бабскому полу на противоположные? А Добрыню будто прорвало – по рядам пошёл. Словит кого – облапит и мокрыми губами к лику льнёт. Срамотно со стороны-то глядеть.
Тут Муромец таки допил поставленную бочку, да как хватит ею о стену палаты – она вдребезги. Бочка, конечно – палаты-то каменные. Щепками пирующих засыпало. Князь в то время посла упившегося в покои провожал, а боярам шибко досталось. Кинулись толстобрюхие в двери, а там Добрыня лапища расшаперил – кого словит, сразу целовать. Это от избытка доброты у него чувства наружу пёрли, а народу-то невдомек.
Алёша Попович за шумком-то девку греческую под стол сволок и ну над ней измываться. Краса цареградская горда, на своём стоит, но и Алёшенька не зря богатырём слывёт – титички мраморные с жопкой в глину измял, а потом поднапрягся и овладел-таки девкой. После сих трудов – далеко не ратных – на ней же и заснул богатырским сном.
Тем временем, грохнулся спиной на стол Илюха Муромский: оборола таки бочка меда богатыря – не до медведей стало. Упал на стол – сломал его. Стол дубовый – да спина-то богатырская. Захрапел Илюха так, что ставенки жалобно запели: скрип-скрип, скрип-скрип….
– Люблю я вас, люди! – возвестил Добрыня опустевшей палате.
Да уж некому было слушать.
Положил Никитич щёку на длань богатырскую и задудел в ноздри погромче Поповича да потише Муромца.
В гнев ярости пришёл князь Владимир Красно Солнышко, обнаружив разгром гостевой палаты и надругательство над басилевым подарком. Приказал схватить упившихся богатырей, раздеть до срама, побросать в телегу да отвезть за Дикое Поле на берег сурожский, чтоб возврата им в Киев больше не было.