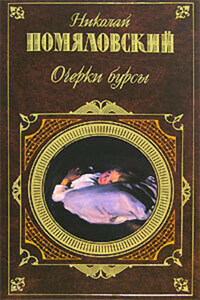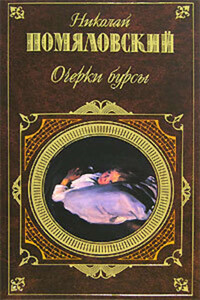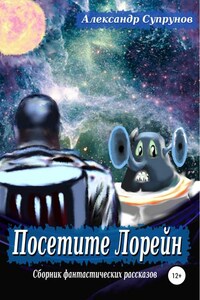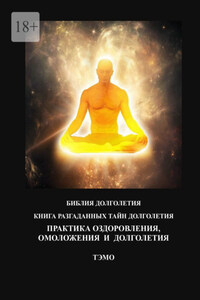Егор Иванович Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Иванычу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «А где же те липы, под которыми прошло мое детство? – нет тех лип, да и не было никогда». Припомнился ему отец-мещанин, слесарь, жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы. Матери он не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его широком лице, а он, Егорка, тут же копается. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: «А поди ко мне, чертёнок!», посадит его к себе на колени, любуется на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.
– Чего ржешь, тятька?
– Что, Егорка? а?
– Ржешь чего?
– А стих такой нашел.
– Ишь ты! – отвечает Егорка.
– А спеть тебе песню? – спрашивает отец.
– Спой, тятька.
И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Ивановича совершилась в грязи и бедности; а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка был мальчик бойкий: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрезки железа и меди заменяли ему дома игрушки.
– Из тебя, Егорка, лихой выйдет мастер; много у тебя будет денег.
– О! – говорит Егорка.
– Тогда не забудешь своего тятьку?
– Я тебя, тятька, не забуду…
Отец беседовал с Егоркою как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова – все расскажет сыну.
– Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.
– Я, тятька, пиво буду пить…
– И молодец!.. Ты у меня молодец ведь?
– Еще бы! – отвечает сын.
Иногда отец советуется с ним.
– Вот, Егорка, деньги получил за работу, а завтра праздник: так мы щей сварим, пирог загнем, да еще чего бы? Киселя аль каши?
– Каша не в пример лучше…
– Ну, так каши, – соглашается отец.
И во всем так: идет ли отец гулять в церковь, в гости – везде с ним Егорка. Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разденет, спать уложит, да еще приговаривает:
– Ну, ложись!.. ишь ты, нарезался!..
– Молчи, Егорка!
– Ладно, не разговаривай, лежи себе…
Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того ни с другого поколотит сына…
– Не озорничай, тятька!.. черт этакой!.. право, черт! – отвечает ему сын.
– Врешь, каналья, врешь!.. Я тебе овчину-то натреплю…
При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит; ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступиться к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, выглянув исподлобья, отец сказал:
– Полно, Егорка; ну тебя…
– А! теперь и рожу в сторону!.. стыдно, небось, стало?.. А ты не дерись!..
– Да ну тебя…
– Ишь нарезался, на стены лезет!
Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка выглянул сердито и сказал:
– В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тут нечего молчать!..
Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца. Впрочем, случалось, что отец и в трезвом виде давал своему сыну потасовку. Заспорят иногда: отец хочет киселя, а сын каши; отец закричит: «Молчи!», а сын отвечает: «Чего молчи? я тебе дело говорю». Отец и натрясет ему вихор. Только тогда уже отцов верх, и Егорка не знает, как подойти к нему. Но ссоры редко случались; отец большею частию соглашался, что «каша не в пример лучше киселя», тем дело и кончалось.