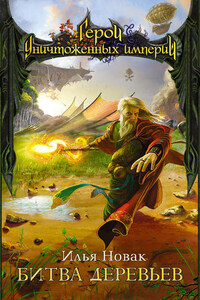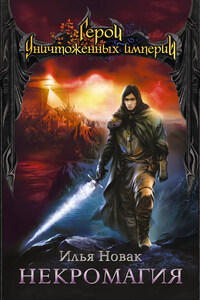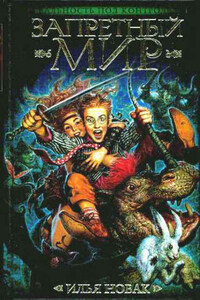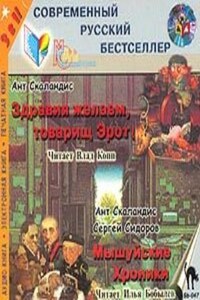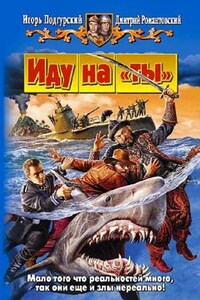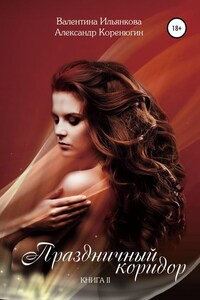– Уиш Салоник… – произнес лысый стражник и внимательно посмотрел на меня. Я кивнул, соглашаясь с этим заявлением.
– Осужден на три месяца за бродяжничество… Выглядит на двадцать пять – двадцать семь годков… Рост – один и две трети…
Разглядывая его лысину, ярко блестевшую в косых солнечных лучах, что падали сквозь зарешеченное окошко, я качнулся с носков на пятки и обратно.
– Так… волосы светло-рыжие… нос свернут влево… глаза серые… – Хмыкнув, я взъерошил свою изрядно отросшую за эти месяцы шевелюру, потер два раза ломаную переносицу и моргнул.
– Руки за спину! – рявкнул второй стражник – долговязый усатый брюнет с мордой, которой не позавидовал бы и западноливийский болотный ящер, известный в народе под знаменательным прозвищем заточник.
– Лицо круглое… так… веснушки… – Последовал очередной взгляд. – Уши обычной формы, маленькие… – Меня в последний раз осмотрели с ног до головы, и наконец лысый вынес вердикт: – Он!
– Он, – подтвердил усатый.
– Я, – согласился я.
– Поди сюда, бродяга!
Пока я шел к нему, лысый, полуобернувшись, извлек из стеллажа у стены длинный деревянный ящик и бросил на стол холщовый мешочек.
– Ну-ка, ну-ка… мы тут имеем… – Он стал читать пергамент, шевеля губами: – Ремешок коричневый (на стол лег широкий потертый кожаный ремень с массивной пряжкой)… Кисет из-под табака (за ремнем последовал еще один холщовый мешочек с перетянутой шнурком горловиной)… Деревянная фляжка, пустая… монета серебряная, достоинством в один мерцал…
Когда три месяца назад я попал сюда, кисет был наполовину заполнен табаком, а монет насчитывалось шесть…
– Что-нибудь не так, бродяга? – ревниво осведомился внимательно наблюдавший за мною усач.
Ловить тут было нечего, но я все же решился протестующе вякнуть:
– Монет было шесть!
– Шесть? – удивился лысый. – Ты уверен? А вот здесь… – Палец с заскорузлым ногтем ткнулся в пергамент. – Здесь вот фиолетовым по желтому написано: «одна мерцальная монета»…
Оба выжидающе уставились на меня.
Было большой удачей, что я попал сюда всего лишь на три месяца и только по обвинению в бродяжничестве, но я все же рискнул еще раз вылезти с заявлением:
– Несправедливо, начальник!
– Справедливость? – еще больше удивился лысый. – Ты запамятовал, где находишься, бродяга? Протри глаза! Это – западноливийский острог под протекторатом нашего нежного, как новобрачная в первую ночь, Его Пресвятейшества. Здесь кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь бакланил о справедливости?
– А знаешь, Притч, – подал голос усатый, – был тут у нас такой случай… Посадили это одного красавца тоже на треху и тоже за бродяжничество, а он давай в камере буянить, говорить лозунги об этой самой справедливости и вообще вести себя вызывающе. Помнится, устроил как-то шестичасовую голодовку… Мол, у нас ущемляют его бродяжное достоинство и как-то даже принижают его сводобо… сволото… сво-бо-до-любивую личность…
– Ну?! – поразился лысый. – Это в нашей-то образцово-показательной тюряге? Которая заняла почетное шестое место на последнем ежегодном смотре Его Пресвятейшества?
– Во-во… Ну, короче, выпускают его через три месяца… Он еще здесь, внизу, успел нахамить всем, кого увидел… А через час патруль приводит его обратно. Оказывается, у него, у этой достойной свободолюбивой личности, в портках зашита бутылочка с соком безумной травы… Ну а в Западном Ливии этим делом может торговать, сам знаешь, только церковь Деметриусов Ливийских во главе с нашим преисполненным благодати, как соты – медом, дорогим Его Пресвятейшеством… Ну, этого малого, значит, опять к нам, уже на восемь месяцев, за дурман… Ума не приложу, как эту бутылочку не нашли при первом обыске! Только ничему он не научился, а попытался сколотить профессиональный союз свободных уркаганов. И даже требования выдвинул: чтобы, значит, раз в неделю бесплатно девок приводили, чтоб отбой не раньше полуночи, а подъем не раньше девяти, чтоб разрешили карточные игры, чтоб обязательный послеобеденный мертвый час, чтоб охрана обращалась на «вы», а в баланду клали побольше мяса. Слыхал когда-нибудь о такой ерунде, а, Притч? Как будто можно сделать так, чтобы стало