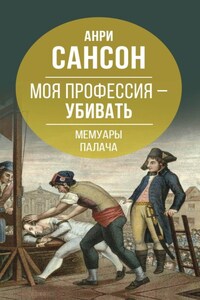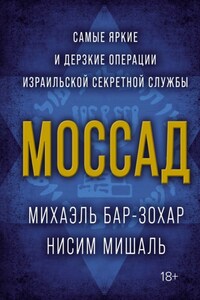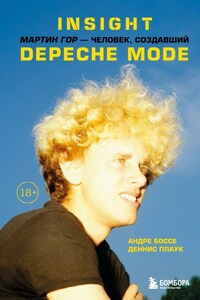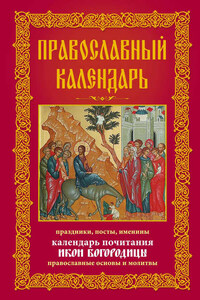18 марта 1847 года я возвращался домой, утомленный одной из тех долгих прогулок, в которых я искал лишь уединенных мест, чтобы подавить тяжкие мысли, волновавшие мой ум. Едва я успел переступить порог своего дома, и старая, столь редко отворявшаяся дверь, скрипя своими заржавленными петлями, успела затвориться за мной, как привратник вручил мне письмо.
Я тотчас же узнал большой конверт с огромной печатью, вид которого уже не раз приводил меня в трепет: внутренне содрогаясь, я взял послание и, ожидая найти в нем одно из тех зловещих приказаний, повиноваться которым я был вынужден в виду своей печальной профессии, тихо начал подниматься по лестнице.
Дойдя до кабинета, я с волнением вскрыл письмо, которое должно было содержать чей-либо смертный приговор. Я развернул его.
Это было мое увольнение от должности!!!
Мной овладело странное и неопределенное чувство; я поднял взгляд к портретам моих предков, окинул мрачные, задумчивые лица – в них я читал ту же мысль, которая до сих пор угнетала и мое существование; я смотрел на своего деда, снятого в охотничьем костюме, задумчиво опирающегося на ружейный ствол и ласкающего свою собаку, быть может, единственного друга, которого он имел когда-либо; я взглянул на своего отца, снятого со шляпой в руке и в трауре, который он никогда не снимал при жизни. Я как будто хотел сообщить всем этим немым свидетелям, что, наконец, настал конец фатализму, тяготевшему на их поколении, и что я намерен теперь делать.
Позвонив, я велел принести себе чашку воды, и перед ликом Господа Бога, все читающего в наших сердцах и в глубочайших тайниках нашей совести, торжественно умыл руки, которым уже не придется быть запятнанными кровью себе подобных.
Затем я пошел в комнату своей матушки, бедной святой женщины.
Часть I
И у волков есть свое семейство!
Я как будто и сейчас еще вижу ее в старом бархатном кресле, с которого она с трудом вставала. Я положил на ее колени послание Юстиции. Прочитав его, она взглянула на меня своими добрыми глазами, в которых я столь часто черпал всю свою силу и бодрость, и сказала:
– Да будет благословлен день сей, сын мой! Наконец он избавляет вас от зловещей участи ваших предков; вы спокойно, в мире проведете остаток дней своих, и, может, Провидение не остановится на этом…
В страшном волнении, в котором радость так и прорывалась наружу, я не находил слов, чтобы ответить ей.
– Наконец, – продолжала она, – должен же был быть когда-нибудь конец этому. Вы последний из своего рода. Всевышний даровал вам лишь дочерей: я всегда благодарила его за это.
На другой день восемнадцать человек претендовали на мое место и сновали со своими просьбами с приложением рекомендательных писем по министерским кабинетам. Как видно, заменить меня было нетрудно.
Что касается меня, то я уже принял решение. Я спешил продать старый дом, в котором семь поколений моих предков провели свою жизнь в презрении и унижении, лошадей, экипаж, на котором, наподобие герба времен крестовых походов, был изображен надтреснувший колокол – герб самый красноречивый. Одним словом, я избавлялся от всего, что могло поддерживать или возбудить память о прошедшем, и затем, отряхнув пыль с башмаков о порог двери, я навсегда оставил этот дом, где подобно предкам никогда не мог пользоваться ни спокойствием – днем, ни отдыхом – ночью.
Я бы уехал в Новый Свет, если бы меня не удержали преклонные лета моей матушки, к которой я с детства привык питать сколько любви, столько же и обожания. Слишком недостаточным казалось мне отделить себя пространством морей от Европы, где я был исполнителем столь печальной обязанности в кругу общества, которое считается одним из образованнейших. Америка со своими возникающими Штатами, едва начертанными законоположениями, первоначальными нравами, импровизированными городами, своими последними атрибутами невежества, умирающего под благодетельным влиянием цивилизации, своими обширными степями и пустошами, девственными лесами и огромными реками, поэтические описания коих я читал у Шатобриана и Купера, – все это невыразимо привлекало меня. Мне казалось, что это страна возрождения и что, поселившись в ней и переменив имя, облаченное столь жалкой славой, на другое, я могу надеяться зажить новой жизнью и сделаться свободным и деятельным гражданином великой страны.