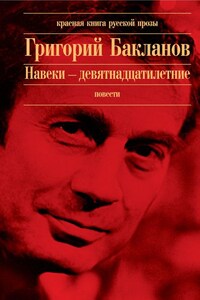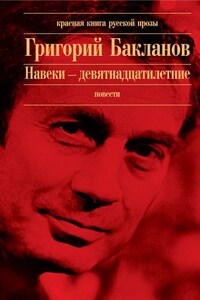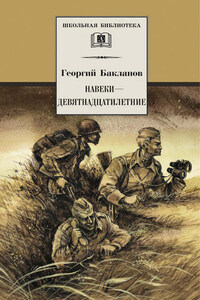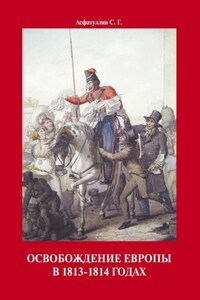Из нынешнего дня в прошлое смотришь как в перевернутый бинокль: все такое уменьшенное, а многое и не разобрать. Но вот вижу: зима, мороз, снежная улица. Пробежала, пофыркивая паром из ноздрей, по-зимнему лохматая лошаденка, мужик в санях в сене стоит на коленях, похлестывает вожжами. А вдоль домов, больше – деревянных, идет, оглядывается на себя в стекла… Да, это я иду. Кирзовые голенища только что выданных мне сапог полощутся на ногах, шинель перетянута ремнем, и там, под ремнем, больше складок суконных, чем меня самого. Зато ушанка набекрень. Старушка в платке шла навстречу, остановилась: «Господи, и таких уже берут…» И вытерла глаза варежкой.
Это для меня тогдашнего – старушка, а была она чья-то мать. И когда читаю или слышу «Родина-мать», я вижу ее, а не ту, яростную с плаката времен войны: платок головной откинут на плечи, рука с растопыренной пятерней призывно взметнулась вверх, – «Родина-мать зовет!». И всегда вижу мою мать. Она не провожала нас на фронт, ни Юру, старшего, ни меня: ее уже не было на свете. Но и сейчас, когда я почти вдвое старше ее, она для меня – мама…
Ей было двадцать восемь лет, когда родился Юра. Он был похож на нее и, значит должен был быть счастливым. Я, родившийся через два года, лицом в отца, а назвали меня так же, как звали деда. В двадцать втором году, за год до моего рождения, он зачем-то поехал в Москву и там был сбит машиной, хотя машин тогда в Москве было по пальцам перечесть, а шоферам такси, как рассказывают, шили кожаные куртки как людям редкой и опасной профессии. Но повезли деда не в больницу, а прежде всего в милицию, выяснять обстоятельства, и до больницы уже не довезли. Мне дали его имя, и я теперь как бы продлеваю его жизнь.
Мир был теплым, уютным и незыблемым, пока жива была мама. А как жила она, я не знаю, но, сопоставляя, могу о многом догадываться. Осталось в памяти (со слов родственников), что ее не хотели выдавать за моего будущего отца: приличная небедная семья, пятеро дочерей, сын, и вдруг – неведомо за кого. Никто в Воронеже не знал отца, он был здесь, как говорится, пришлый. И профессии у него надежной, в общем-то, не было, только хорошая голова на плечах. Но этого, сами понимаете, мало, чтобы отдать за него дочь с высшим образованием.
Как все в жизни, в этой нескончаемой цепи, протянувшейся к нам из неведомой дали и уходящей в еще более неведомое будущее, – как в ней все связано: по сути дела, решалось и то, о чем вовсе не думали – быть ли моим детям, моим внукам и внучке или не быть. В этот момент решалось. И мама решила: быть. Она вышла замуж за отца, это отдалило ее от семьи. И сегодня взрослые мои дети, внуки, внучка вряд ли улавливают эту связь времен, не догадываются, когда завязывались их жизни и что от этого зависело. Но это – по моей линии. А есть и линия моей жены. Там тоже все решало одно слово. Моя будущая теща была на шесть лет старше моего будущего тестя, и все могло не состояться: она была красавица с двумя длинными косами, а он даже ниже ее ростом. Но он стал перед ней на колени. Недавно мы говорили с Эллой, с моей женой, о нашей внучке, и жена вдруг сказала: «Как хорошо, что папа тогда стал на колени…» Мой отец никогда ни перед кем, ни перед чем на колени не способен был стать, а таких, кто не гнется, наша жизнь ломала. Потому недолго прожил он на свете, всего сорок лет, и моя мама много приняла с ним муки.
Но вот – зимний день. Мне пять или шесть лет, в доме натоплено, от кафельной печи пышет теплом, за окном мороз, и хорошо из тепла смотреть в окно на белую от снега улицу. В легких, скользящих саночках проносятся извозчики, покрикивая: «Ей, ей!..» В простоте душевной я думал, что это они так божатся: «Ей, ей…» Но хотелось мне быть ломовым извозчиком. Летом в телегах, грохочущих по булыжнику, они едут с базара, и огромные битюги ступают впереди телег своими мохнатыми ногами. А извозчик в брезентовом фартуке сидит в телеге, свесив ноги, подергивает вожжами. Вот и я хочу так сидеть, свесив сапоги над колесом, подергивать ременными вожжами: «Нно-о!» Или зимой, когда от битюгов валит пар, повалиться боком в сено в санях. Я срочно зову маму: вот такого битюга вы мне купите, когда я вырасту… Даже во втором классе я все еще мечтал быть ломовым извозчиком, и мой одноклассник попользовался этим, за что я, впрочем, на него не в обиде: он пообещал мне добыть настоящий конский хвост, из которого я сплету волосяной кнут, потому что какой же ломовой извозчик без такого кнута? А пока что я относил ему все, что он требовал. Особенно жаль было мне отдавать мой молоток: я еще и плотником хотел быть. Запах свежего дерева, запах стружек – я мог часами стоять и смотреть, как вьется над рубанком смолистая стружка, кольцами катится под верстак. Но делать нечего, отдал и молоток. Наконец он повел меня в проходной двор, у поленницы дров сказал, озираясь: здесь! Мы чуть не до земли раскидали чьи-то дрова. Он честно работал со мной вместе. Тут нас заметили, с криками погнались за нами, но я еще долго верил, что он действительно спрятал там конский хвост, я просто не мог ему не верить.