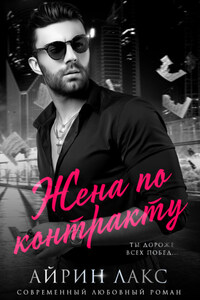Волглый снег прилипал к лыжам, Иван с трудом тащил свое усталое тело по еле заметной в буйных снегах лощине вдоль спящей, закованной в толстый лёд реки. Он простить себе не мог, что пошел сегодня в лес смотреть следы зверья перед завтрашней охотой, ведь мало того пошёл, ещё и заблудился. Да и это бы было не страшно, если бы он, чёртов упрямый дурак не взял с собой Алексашку. Сашуню, сынка… Говорила же ему Татьянка, увещевала, просила. "Мал совсем Алексашка, пяти годков нету, куда ты его", – почти плакала жена, но Иван же упертый, как осел, закусил удила. "Пора мальцу на лыжи встать по – настоящему, что он все по двору, да по селу. Да и недалеко мы, кружок маленький до дальних сосен сделаем, да и домой. Что ты растрещалась, сорока".
Крепкий, как столетий дуб Иван, небольшой, но жилистый, сильный мужик свою высокую, тоненькую, большеглазую жену любил, лелеял, но особой воли не давал – неча. Мужика жена уважать должна, да слушать, на том и семья стоит. А сын – мужчина. Хоть и будущий. Пора от юбки отрываться.
Заплакала Татьянка, но сына пустила, укутала потеплее, перекрестила вслед. Все и шло бы ладно, если б не пурга эта невесть откуда взявшаяся. И не долго, вроде, пуржило, да глаза застило. Повернул, видать, в какой-то момент Иван не туда, съехал в сторону, лыжню снегом в момент занесло, да и заблудился. Брел вот теперь, сына нёс на закорках, вроде и к дому, а все нет, да нет села. Провалилось, не иначе.
Уж и по времени давно должны огни показаться, смеркаться начало, а все лес вокруг, да только гущает. Мороз начал крепчать к ночи, Алексашка тихо хныкал на ухо, Иван со страхом чуял, как начинают стыть ноги, да и силы на исходе, еле полз. И уже, когда отчаянье сковало его по рукам и ногам, вдалеке, среди молодых сосенок показался огонёк.
– Тьфу ты, наконец. Слава тебе Господи, не дал сгинуть нам, уберег. Не хнычь, Алексашка, вон деревня наша, только, видать, мы круга дали, с другой стороны идём. Мамка ругаться начнёт, ты уж не нюнь, держись, мужик.
У Ивана, как будто силы утроились, крылья выросли, он рванул по лыжне, вдруг невесть откуда взявшийся, и только, когда до огонька оставалось рукой подать, вдруг понял – это не село. На поляне ровной и круглой, как тарелка, среди плотно сомкнувших свои ряды елей, крошечным окошком светила избушка. Даже не избушка, землянка, скорее, вернее среднее что-то, вросшее в землю. Иван резко затормозил, аж всхрапнул от неожиданности, стянул захныкавшего сына с плеч, спрятался за толстый ствол ели, прижал ребёнка к себе.
– Тсс, Алексашка. Не шуми, сынок, тихонько стой. Спрячься за кустик, сейчас папаня глянет, что за чудо там. Только не кричи.
– Нечего там смотреть. Дом там наш, чужих не ждали. Как тебя занесло-то милый, лет пять гостей не было. Да ещё с дитем. Заблудился, никак?
Голос женщины был хрипловат и насмешлив, но явно не старый, красивый. Иван, с трудом справившись с ледяной волной страха медленно обернулся на голос и не поверил своим глазам. Прямо перед ним, легко опершись на лыжные палки стояла женщина. В коротком тулупе, широких тёплых штанах, закутанная до глаз в пуховый платок, с огромной связкой хвороста за спиной она казалась абсолютно реальной, земной, хотя быть такой она не могла. Ну не должно было здесь оказаться никакой избушки, в каком – то часе ходьбы от деревни, да что бы никто об этом не знал.
– Что встал, как деревянный, дитё вон замерзло, еле живое. Пошли. Чай согрею с малиной, а лучше с шиповником. Потом дорогу укажу. Пошли.
Женщина легко, как будто ей это не составляло никаких усилий, наклонилась, подхватила Алексашку, усадив его на сгиб руки и пошла вперед, оставив палки у дерева, гибко раскачиваясь из стороны в сторону.