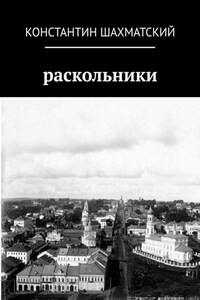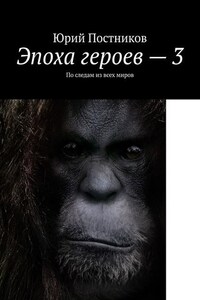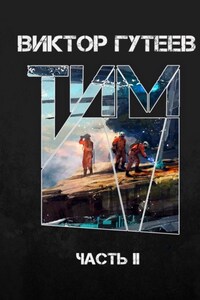А вот и она, ненавистная сердцу провинция! Всякий раз возвращаясь из командировок по Слободскому тракту, минуя село Макарьево, чиновник видел город издалека. Тот как бы возносился над всеми окрестностями. Главным образом, благодаря высоким шпилям многочисленных храмов да колоколен, стоящих на самой кромке высоченного берега…
Обозревая город со стороны, пребывая в состоянии жесточайшей меланхолии (а настроение Салтыкова могло зависеть от неутешительных результатов проделанной ревизии или подхваченной в какой-нибудь гостинице лихорадки), он ловил себя на мысли, что незатейливая красота церковной архитектуры в совокупности с природными ландшафтами вызывали в нем одновременно и чувство блаженного умиления, оттого, что он часть этой природы, и совершенной брезгливости, по причине того, что Вятка, не смотря на все свои красоты и прелести, оставалась для него лишь местом изгнания, в коем он вынужден был прозябать лучшие годы. Другой раз, находясь в состоянии холодного безразличия ко всему окружающему, он ловил себя на мысли, что все происходящее с ним здесь и сейчас, всего лишь странный сон, вплетенный каким-то образом в ту настоящую жизнь, счет времени которой он, к сожалению, давно потерял. Упустил окончательно и бесповоротно. И порвал последние ниточки, связывавшие его с беззаботным жизнепровождением в северных столицах с их театрами и балами; не такой уж и скучной службой в военном ведомстве; веселыми попойками и тайными посещениями запретных кружков…
В такие моменты не было в Вятке ничего для усталого сердца. И ничто не носило в чертах колоколен и белокаменных монастырей теплоты человеческих рук. Рук, построивших эти стены. Интересно, думал он, а те самые руки, свободно манипулировавшие оптимальными пропорциями и золотыми сечениями, понятиями меры и достатка, были ли они свободны от сегодняшних предрассудков общества в отношении к инакомыслящим и заблуждающимся. Наверняка, были. А, может, нет?
И вот тогда он потихоньку плакал. Скулил и скрежетал зубами от злости, стуча кулаком по деревянной скамейке коляски или дремучего тарантаса, в котором ехал. Проклинал и Господа и Царя батюшку за вселенскую несправедливость по отношению к несчастному ссыльному. Далее успокаивался. Понимал, что как бы не хулил этот город прежде, как не пытался вырваться, ничего милее его истомленной душе и, уставшему телу, увы, в данный момент не предвидится! А раз так, то нужно ли ему ценить эти годы? Нужно ли запоминать и записывать каждый день, каждую минуту пребывания здесь?
К черту все это! Сей вопрос всегда оставался для Михаила из разряда гипотетических.
Однако теперь, благодаря помощнику Дубельта, можно взглянуть на окружающий мир по-иному. Можно сказать, в розовом свете. И как хороша показалась ему в этом свете наивная Вятка! Как прекрасна, и нисколько не вычурна. С ее зваными обедами, блинами и бубликами; с карточной игрой до утра; перезрелыми девицами на выдане; беспринципными чиновниками.
Наконец-то я дома! Как хорошо!
Санкт-Петербург и окрестности
Из окна летящего тарантаса уже проглядывались стены Шлиссельбургской крепости…
Аверкиев, наблюдая за спящим жандармом, пнул лежащий на полу саквояж. Саквояж был довольно большим, с усиленными металлическими ручками, перехваченный поперек двумя железными обручами. Охранник сладко посапывал, пуская слюну, и ничего не предвещало его скорого пробуждения. На прошлой станции, где они меняли лошадей и перекусывали, чиновнику удалось добавить в его рюмку несколько капель снотворного.
Сломав печати, Иван Александрович щелкнул замком и открыл чемодан. Вот оно, золото!