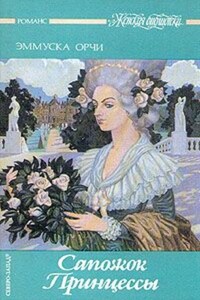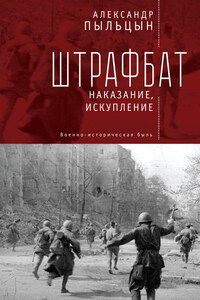Узника привели в пыточную избу на двух цепных растяжках, как обыкновенно водят диких зверей. Однако стоял он смирно и даже как-то расслабленно, обнимая тяжелую дубовую чурку, прикованную к ножным кандалам. А голову держал высоко из-за широких шейных оков, подпирающих взлохмаченную долгую сивую бороду, и даже при свете тусклой свечи было видно, что белесые глаза его незрячи. Росту он был под сажень и лет лишь немногим за сорок, но сутул от тяжести цепей и под рваной рубахой проглядывали старческие мощи. Граф никогда не видел югагиров и теперь дивился, разглядывая его, ибо по обычному представлению все сибирские ясачные народы, будь то тунгусы, саха или чукчи, впрочем, как и другие из восточной стороны, японцы и китайцы, должны быть желтолицы, скуласты и раскосы. Среди прочих редкостей, им собранных за многолетнее пристрастие к вещам курьезным, были и диковинки с далекой реки Лены, привезенные в дар тамошним воеводой, – бубен, колокольца, фигурки из моржовой и мамонтовой кости, а еще засушенная голова якутского старика-шамана, которая будто бы использовалась для тайных магических ритуалов.
Этот же югагир ничем не походил на сибирского туземца, а был вполне европейского вида, более напоминал шведа, разве что волос, побитый проседью, угольно черен. Называл он себя чувонцем, человеком из племени Юга-Гир по имени Тренка.
– Снимите с него железа, – велел граф.
Стражники из инвалидной команды крепости переглянулись и слегка натянули цепи. Одноногий, на деревяшке, комендант острога зачем-то стянул треуголку и старомодно поклонился:
– Буен, ваше высокопревосходительство. И зело дерзок. Без цепей убечь может или великий урон нанести. Посему государем велено держать, яко лютого зверя.
– А на каком языке он говорит?
– Да на своем, чувонском.
– Незнаемый язык…
– Весьма на наш похож, токмо старый. Однако же гордец, уверяет, де-мол, наша речь и есть чувонская и мы все тоже чувонцы!
– Веры какой?
– Да тоже нашей, православной, – блеснул знаниями комендант. – Токмо старого обряда. Югагиров-то еще до раскола окрестили, а нового они не приемлют и крепко на том стоят. Токмо молятся редко, и все тайно, чтоб никто не позрел.
Брюс приблизился к узнику, хотел поймать непослушный взгляд – не удалось… Палач в Двинском остроге из татар был и пытал его по-своему, как у них в старину ханов-отступников пытали: очи спалил кипящим молоком, отчего зеницы растворились и побелели, словно у рыбы вареной.
– Я приехал по воле государя Петра Алексеевича, – отчетливо произнес Брюс, – дабы избавить тебя от наказания и поспособствовать исполнению дела, с коим ты прибыл из сибирских глубин.
Глаза Тренки остановились, привлеченные голосом, и спина несколько распрямилась. Он поставил чурку на пол и уселся на нее с видом гордым и степенным.
– Ты кто таков? – спросил хрипло. – Назови свое имя.
Говорил он немного нараспев, как поморы говорят, но акал по-московски.
– Яков Вилимов Брюс, генерал-фельдцейхмейстер.
– Из немецкого племени?
– Из шотландского…
– Все одно… Ты лжешь, немец, – твердо сказал узник. – У царя и при жизни не было воли способствовать. А по смерти нас и вовсе притеснять станут всячески. И не скоро предадут забвению.
Невозмутимый во все времена, Брюс тут вздрогнул и слегка отпрянул:
– По чьей… смерти?
– Петра, коего ты величаешь «государь». Теперь на престоле-то иноземная женка его, гулящая. На что мы ей? Ой, врешь ты, человек немецкого племени, да не смекну, какова тебе выгода?
– Помилуй, да ведь император здравствует!
– Живого бы в ледник-то не положили. А он седьмой день там, ростепель в Питербурхе. Не отпетый еще, поелику некогда, молва по стольному граду, шум. Вчера токмо женка его распутная своего добилась, так, может, ныне отпоют. Да земля его покуда не принимает. Лишь на сороковой день сподобится. И хоронить некому, наследство делят и тебя ждут. Ты и отправишь его в последний путь.