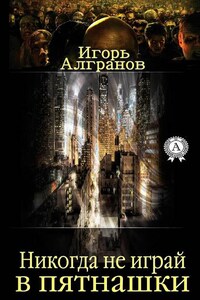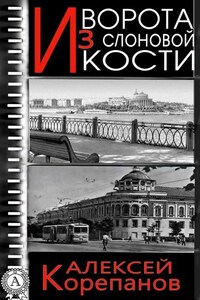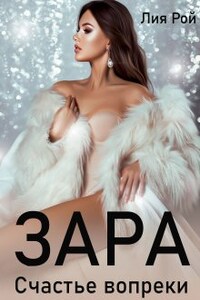У жадности всегда будут жертвы, сынок, потому что все боги требуют жертв.
Мейсон Уоллем
В колодце городской канализации жутко воняло. В сырой и гулкой темноте казалось, что эту вонь можно потрогать рукой. Пока я, помогая себе пятнышком света от налобного фонарика, возился с люком, пытаясь открыть, Надя смотрела вниз, держась одной рукой за ржавую скобу лестницы этой пахучей бетонной трубы. В другой руке она крепко сжимала «палыч», охраняя нас обоих. Наконец, я с усилием отодвинул тяжёлую, неприятно влажную крышку люка и выглянул на улицу. Вроде никого. Никак не могу привыкнуть к этому мерзкому смраду, идущему из под ног. Откуда он берётся, с такими-то системами очистки и регенерации?! Сейчас ведь не какой-то там унылый двадцатый век. Всё-таки четверть двадцать первого почти миновала. Хотя, пожалуй, с такой плотностью городского населения… Но это ерунда, это не самое страшное. Это всего лишь грязь человеческая. Там, внизу, есть ещё кое-что – вот это проблема! Нечеловеческая. Всечеловеческая.
Ночью нам пришлось повозиться. Ещё вечером Надя засекла в городских катакомбах двенадцать пятнашек. Многовато для одной ночи, и даже слишком много для маленького городка всего на пять миллионов жителей. Если так пойдет дальше, мы упустим и этот город. И придётся уйти. Тогда Ромов, вечно затянутый тучами, будет потерян для людей, и начнётся мёртвый сезон, который никогда для него не кончится. Ромов – маленький город. Ну да, за большие мы уже не боремся. Гипергорода мы уже, считай, все бездарно… потеряли. Практически без сопротивления отдали пятнашкам. А ведь это почти вся пригодная для комфортного жилья территория! Мы же не диковатые предки или твердолобые фермеры, чтобы жить где-нибудь посреди поля или леса.
Я подвинулся вбок, прижался к тёплой шершавой стенке и пропустил Надю вперёд, чтобы она осмотрелась, прислушалась, оценила обстановку. Надя оглянулась, кошкой выскользнула из люка и протянула мне руку. Одно движение – и вот мы оба стоим на тротуаре. В проулке тоже никого, отлично, так и должно быть в городе после массового бегства жителей. Правда, не всегда бывает такой тихий выход. Сколько наших полегло под самое утро, почти на поверхности…
Я взглянул на задачник: шесть двадцать. Всё, на сегодня обход завершён. Теперь скорей домой, спать, ничего больше. Как хорошо, что твари не ходят днём. Суточный ритм у них имеется, хоть это мы о них уже знаем. И серые тоже не любят дневное время, даже под землёй. Иначе мы бы давно проиграли.
Мы с Надей шли по пустынным улицам, затенённым чёрными на фоне светлеющего неба глыбами небоскрёбов, мимо редких, прибитых пылью машин, брошенных у тротуаров, а то и прямо посреди проезжей части. Вряд ли эти куски пластика вперемешку с дрянным железом когда-нибудь тронутся с места. Их и раньше, ещё до войны, становилось всё меньше с каждым годом, с такой-то подземкой, а теперь…
К семи мы добрались до квартиры на сто первом этаже одного из опустелых домов Семнадцатого квартала, снятой кем-то из наших три месяца назад у полуслепой старухи, не желавшей жить на одну электронную пенсию. Старушки в квартире нет, как, впрочем, и остальных жителей в доме и во всём городе. На днях прошла срочная эвакуация по нашей сводке. Что-что, а эвакуацию военные научились проводить, хоть какая-то польза от них. Да уж, наконец-то генералы поняли, что нам надо помогать, а не мешать. Наконец-то… Когда потеряны все сколь нибудь значимые города и большая часть населения. Святой Питер, Москва, ребята на днях передавали, что и Катин тоже… Вот побережье Дальнего Востока и весь север ещё наши, говорят, ещё держатся – велика Россия-матушка, тем пока и спасаемся. Только там ведь почти никто не живёт, пара-тройка мультиков всего. Ходят страшные слухи, что Владик и Хабаровск пропали. Маленькие китайцы оказались неспособны к борьбе, и наших там смыло как волной. И маленькую плотную Европу захватили слишком быстро, кому как не мне, лихому гонщику, это помнить. Коммуникации, так их, раз так!