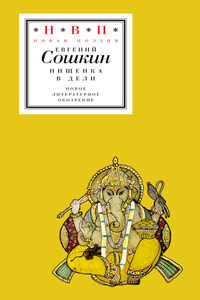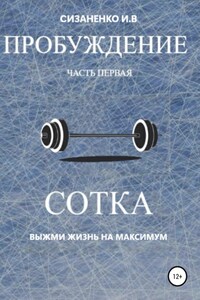Бидермайер возвращается нерасколдованным
Ощущение колдовства, легкости, «таинственного веселья» остается для меня главным событием, связанным с чтением этой книги. Многие из вошедших в нее стихотворений неизменно поднимают мое настроение. Кажется невозможным не радоваться, читая о суетливом человеке, который, «как хренов поисковик», любит заканчивать за вас каждую фразу, и о товарище льве, рассказывающем заслуженному моржу о своей нубийской невесте.
Одновременно в этих стихах вместе с радостью, праздником – безусловно родственная новоэпической традиции зацикленность на фрагментах, постоянные попытки развернуть текст в нечто более, чем трехмерное, раз за разом заканчивающиеся провалом, трагедией («Дерево листву роняет сразу, / Как сервиз»[1]).
Десять лет назад, после выхода предыдущей книги Сошкина, «Лето сурка», Данила Давыдов написал в хронике «Воздуха», что язык автора «лишен гебраизмов, представляя собой некоторую дистиллированную форму радикального неомодернизма»[2], приводя в пример строки «дантовым серпантином / я веду к живодеру / и свинку / и скарлатину»[3] из раннего цикла Сошкина «Скажи шибболет», в котором парадоксальным образом само название оказывалось именно гебраизмом.
В том же цикле обнаруживается на первый взгляд неожиданная перекличка с Николаем Кононовым – «она сплавляла по весне / реке в рукав / лугам навыпас»[4] (сравним с классическим кононовским «В паху долины спит / Руки река»[5]). Случайно или нет, но по крайней мере сами интонации Кононова и Сошкина оказываются родственны, в том смысле, что акценты в стихотворениях расставляются схожим образом – и здесь мы можем согласиться с тезисом Давыдова о «дистиллированных формах», во всяком случае если иметь в виду ту стадию дистилляции, которую называют «чистая, как слеза».
«Литература не приносит новостей, она актуальное делает вербальным, осмеливается говорить о подразумеваемом, но еще не произнесенном» – говорит Кононов в одном из своих недавних интервью[6], и это лучшее из всего, что я сам мог бы сказать о стихотворениях Сошкина, – в них сообщаются срочные новости о пьяных медвежатах, катающихся в наших пещерах и ломающих сталагмиты, светящиеся в местах надлома флюоресцентным свечением. И здесь, в стихотворении о медвежатах, обнаруживается важное отличие поэтики Сошкина от любых других, кажущихся нам родственными: его стихотворения удивительным образом поддаются пересказу, очередному отражению в зеркале, как народные сказки, передаваемые из уст в уста, или как фантастические детские истории. Иногда автор сам вручает нам ключи к своим текстам, – одно из стихотворений называется «Деревенская баллада (Яэль)», где Яэль, конечно, имя не только героини этого стихотворения, спроецированной на библейскую Иаиль, но еще и имя дочери Сошкина. Многие его стихотворения берут начало от рассказов, либо отдельных фраз ребенка – и эти частицы детской речи оказываются щелчком, огнивом из сказки Андерсена, и, наконец, тем огнем, что в ночь идет, и плачет, уходя.
Никто не ждет от огня или от молнии никакой логики и никакой линейности – соответственно, подобно природным явлениям, развиваются и стихотворения Евгения Сошкина. При этом ему чудесным образом удается легко избегать всяческих «классных штук», «вау-эффектов», излюбленного инструментария наследников советской поэтической школы, на которые, как на гром через секунду после молнии, предсказуемо радостно отреагирует читатель (да, кстати, невозможно отрицать, что некоторая линейность обнаруживается и в молниях).
Во всяком случае, во время грозы не вспоминают о продолжателях славных традиций громов и молний, о «предшественниках» и о «наследниках». Иными словами, дело, конечно же, не в том, что поэтика Сошкина находится в некоторой нулевой точке и он никому не наследует. Но, находясь в эпицентре не просто шторма, а именно стихийного бедствия, каким представляется нам современный российский «литпроцесс», автору приходится быть самим собой, то есть стоящим у истоков истории Ноем, спасителем старых и создателем новых гармоний и наречий.