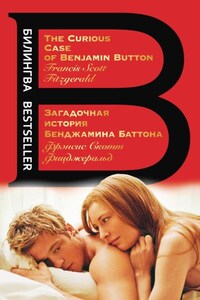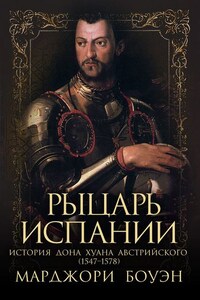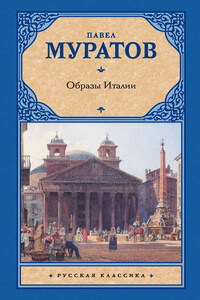На приятнейшем берегу Французской Ривьеры, примерно посередине пути от Марселя до итальянской границы, стоит большой, горделивый, розоватых тонов отель. Почтительные пальмы силятся остудить его румяный фасад, короткая полоска слепящего пляжа лежит перед ним. В последние годы он обратился в летнее прибежище людей известных и фешенебельных; но десять лет назад почти совершенно пустел после того, как в апреле его английская клиентура отбывала на север. Ныне вокруг него в изобилии теснятся летние домики, однако в пору, на которую приходится начало нашего рассказа, крыши всего лишь дюжины старых вилл дотлевали, точно кувшинки в пруду, посреди густого соснового леса, что тянулся от этого принадлежавшего семейству Госс «Hôtel des Étrangers»[3] до отделенных от него пятью милями Канн.
Отель и рыжеватый молельный коврик его пляжа составляли единое целое. Ранними утрами в воде отражались далекие Канны, их розовые и кремовые старинные укрепления, лиловатые, ограждающие Италию Альпы, все они подрагивали на морской глади, колеблемые зыбью и кругами, которые расходились от достававших до нее усиков водорослей, покрывавших чистые отмели. Незадолго до восьми на пляж спускался мужчина в синем купальном халате; приготовляясь к купанию, он долго оплескивал себя холодной водой, громко пыхтел и крякал, а затем с минуту барахтался в море. После его ухода на пляже царил в течение часа покой. Вдоль горизонта ползли уходившие на запад торговые суда; во дворе отеля перекликались судомойки; на соснах подсыхала роса. А по прошествии этого часа на извилистой дороге, что тянется вдоль именуемой Маврскими горами гряды невысоких холмов, отделяющих побережье от собственно Прованса, начинали гудеть клаксоны автомобилей.
В миле от моря, там, где сосны сменяются запыленными тополями, одиноко стояла железнодорожная станция, – от нее июньским утром 1925 года а открытая двухместная машина повезла к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери, еще сохранявшее следы миловидности, коим предстояло в скором времени скрыться под сеткой полопавшихся сосудиков, выражало спокойствие и приятную уверенность в себе. Однако взгляд каждого, кто их видел, мгновенно обращался к дочери, в чьих розовых ладонях, в щеках, словно подсвеченных восхитительным внутренним пламенем, красневших, как у ребенка после холодной вечерней ванны, присутствовала несомненная магия. Ее изящное чело отлого поднималось туда, где взметались волнами, завитками и ниспадавшими на него прядями пепельно-светлые и золотистые волосы, окаймлявшие лоб, как намет окаймляет геральдический щит. Большие, яркие, чистые, влажно сияющие глаза; щеки, озаренные натуральным румянцем, – это светилась под кожей кровь, которую разгонял по ее жилам мощный мотор молодого сердца. Тело девушки нежно медлило на самом краешке детства – ей было почти восемнадцать, утро ее жизни подходило к концу, но роса еще покрывала ее.
Когда внизу под ними показалась жаркая граница неба и моря, мать сказала:
– Чует мое сердце, не понравится мне здесь.
– А мне и так уж домой хочется, – ответила девушка.
Говорили они весело, но явно не знали, в какую сторону им податься, и незнание это уже наскучило обеим – к тому же двигаться абы куда, этого им было мало. Обе жаждали восторженного волнения, и жажда эта порождалась не столько необходимостью подстегнуть утомленные нервы, сколько ненасытностью заслуживших каникулы первых в школе учеников.
– Поживем там три дня – и домой. Я первым делом закажу по телеграфу каюту на пароходе.
С гостиничным портье разговаривала, снимая для них номер, девушка, – французская речь ее была пересыпана присловьями, но несколько заторможена, как будто девушке приходилось их припоминать. Номер они получили на первом этаже, и, распаковав вещи, она выступила сквозь французское окно под слепящий свет дня и немного прошлась по тянувшейся вдоль всего отеля каменной террасе. Походка у нее была балетная, торс не оседал при каждом шаге на бедра, но словно тянулся вверх, отталкиваясь от распрямленной поясницы. Здесь, на террасе, Розмари облило горячее сияние, бросившее ей под ноги четкую, усеченную тень, и девушка отступила назад – свет слишком резал глаза. В пятидесяти ярдах от нее жестокий блеск солнца отнимал у Средиземного моря одну краску за другой; под балюстрадой допекался на подъездной дорожке отеля полинявший «бьюик».