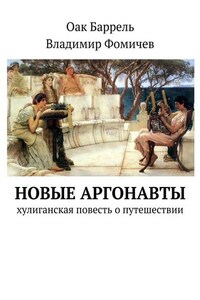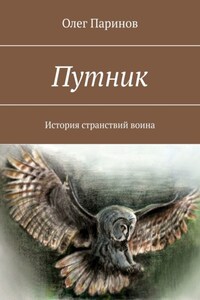Случается, в тихой жизни, далекой от тревог и излишеств, Судьба вдруг выкидывает коленце, и все летит галере под корму – встречаешь новый день аргонавтом, плывешь за руном в Колхиду и вообще встреваешь во множество безобразий. Еще эти женщины с Лемноса, чтоб их по самые…
Два немолодых гражданина – суровый и справедливый монах Филон и смиренный дачник Петрович – ради Вашего высокого удовольствия окажутся в необыкновенных обстоятельствах, которых авторы Вам ни в коем случае не желают. Но «наши», конечно, победят!
В то утро воскресного дня теплой, млеющей в перелесках осени, Петрович пребывал на веранде своего небольшого удобно устроенного дома цвета чертополоха, и вкушал чай с лакомым морковным пирогом. Эта невинная страсть к моркови всех видов приготовления умиляла когда-то родителей нежного, опушенного пшеничным локоном мальчугана, ласково именуемого Левушкой. Пронес же он ее чрез тревожные сны юности, невзгоды и оклеванные вороньем пажити зрелости, перипетии заводской, а после конторской службы, брак и усыхание оного, отринутого однажды и схлопнутого до размеров фотоальбома. Пирожок был не ахти какой, приготовленный неумелой рукой, но сытный и обильный начинкой. В общем, Петрович пребывал в благоденствии и твердом намерении таковое развить до просветленной радости.
Дом, стоящий среди низкорослого сада, посильно вторил набухающим лучам солнца и выражал оптимизм вполне довольного собой существа. Был он не лишен причуды, какой награждают свои творения зодчие средней руки, почесать которую не обо что, кроме дачного Парфенона. Шелушение окрашенных не в прошлый год стен издали вполне могло сойти за патину самого благородного происхождения. Кое-где, то гуще, то реже были нарезаны по доске узоры и даже легко различимые единороги вперемежку с парящими аэропланами, занятыми то ли бомбометанием, то ли фотографированием сих мифических стад. Просторная и удобная веранда манила отвернуться от суеты в благоденствии поселковой тиши. Окна, высокие и чистые, не без версальских мотивов, лишь слегка отвлеченных резными петухами, светились хозяйственным дружелюбием. Наибольшее впечатление производила стланная мореной доской крыша в форме перевернутой каравеллы. Уже сколько труда было выточить и приладить такое диво, не говоря о прилежном за ним уходе – подгонке по стыкам, смолении, подбое… Но Петрович, эмоционал и романтик, ни в какую не соглашался допустить над своей единственной головой ни мещанского куска жести, ни пахучей гудронной дерюги. «Вирджиния!» – гордо называл свой подмосковный дом его неутомимый владелец, показывая иному фото, а то и представляя в натуре редкому счастливому гостю. То, что кургузая его крыша имела наибольшее сродство с перевернутой одесской шаландой, вежливо замалчивалось.
Календарь на стене прямо указывал на то, что никаких беспокойных действий в ближайшие часы предпринимать не следовало и даже категорически возбранялось. К тому же над страной хлопал незримыми флагами праздник N, считавшийся, по календарю судя, хоть и частным в первооснове, но, безусловно, всенародным – если набраться духа и не мельчить, выискивая в истории ненужные теперь никому подоплеки.
Именно духа и не хватало Петровичу в этот час. Он, вроде бы, и витал так и сяк за плечами, грозился смазанной тенью с шитого вагонкой потолка, но никаким способом явно не проступал, омрачая сердце. «Дрянное утро», – чуть не подумал Петрович, но вовремя осекся, сберегая ощущение благодати. Ох уж эта человеческая натура: настроение словно мяч на пригорке – шать! и уже не поймаешь, пока не скатится в самый низ, где найдется в любую сушь лужица с ладонь, в которой и остановится подлый шар, изгваздав бока. Ты никогда, ни на спор, ни забавы для не попадешь в нее с двух шагов. А он, безмозглый кругляк, окажется в ней сам собою, хоть брошенный наугадпод Рязанью.