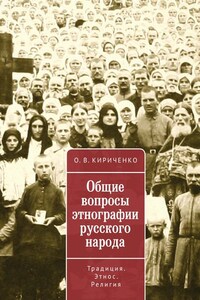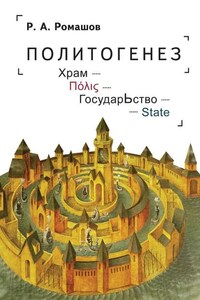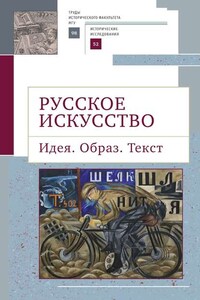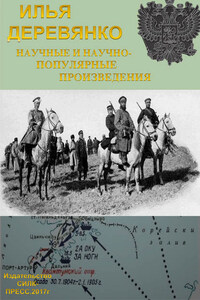« Надо учитывать, что исследование общих вопросов этнического бытия, культуры и истории этноса, государства, им созданного, можно вести лишь с опорой на духовный стержень, учитывая “фактор Бога”, причем, в русской православной традиции – “фактор православно‐христианского Бога” »
Слишком высока сегодня ответственность разговора об общих проблемах науки, в том числе этнографии; давно уже поставлена задача пореже говорить об «общем», словно его и нет вообще. Нам словно говорят: «общее как единичное, частное, а единичное как общее, затерянное во тьме многоликого единичного». За «общее» идет нешуточная борьба, особенно обострившаяся после закономерного краха марксизма в стране и в науке, наиболее осязаемо пытавшегося дать общему свое монопольное направление. Это был искус, желание увлечь общее в дела глобального политического переустройства, заставить науку служить не «золотой рыбке», а «старику со старухой», со всеми вытекающими отсюда земными последствиями.
Конечно, глобализм науке противопоказан, поскольку наука все же апеллирует (по античному) к гармонии, космосу, Логосу, природе, системе, а не к хаосу и сопряженным ему явлениям, на что ее толкает глобальный мир. «Управляемый хаос» – это такой же абсурд из области политологии, каким является, например, понятие «недоантичный грек»: броско, но бессмысленно.
Этнография (этнология) как отдельная научная дисциплина сильно пострадала в XX в., в эпоху развернувшегося постмодерна, когда прогресс открыл перед ней двери своего рода театра абсурда. Войдя в эти двери, она поначалу стала советской этнографией (потом – российской этнологией), где задачи науки сразу тесно переплелись с идеологическими задачами партии и советского строя. Советский гигантизм пришел и сюда, руша все перегородки дореволюционных школ и направлений, устраивая один большой дом для этнографической науки. Темпы и масштабы преобразований поражали воображение. Быстро нарастал вал масштабных исследований (особенно в послевоенные годы); целое море новых артефактов, фундаментальные многолюдные полевые экспедиции во все уголки страны и т. д. И на это огромное, собранное отовсюду множество первичных материалов – одна единственная теоретическая схема, обусловленная идеологическими приоритетами. Но кто бросит сегодня камень в советскую науку, сгибавшуюся под непосильной тяжестью поставленных перед ней научно‐идеологических задач и так много сделавшую? И камень, действительно, стыдно бросать; и мы жили в это время и трудились во славу науки, и мы соблазнялись ее соблазнами. Мы сегодня так не работаем, как работали тогда!
Но не об этом сегодня речь. Светлая память тем, кто тогда по‐стахановски потрудился на научном фронте и вместе со страной сумел выполнить задачу ее защиты и сохранения. Речь сегодня идет не о желании перечеркнуть или очернить этот опыт, а лишь о необходимости дать ему адекватную оценку; без залихватского оптимизма (но и очернения) и привязки к насущным задачам того времени. Что же дала нам в теоретическом плане советская этнографическая школа, чем мы сегодня можем воспользоваться, чтобы двигаться дальше? По большому счету, в гуманитарной области это был негативный опыт, необходимый лишь для того, чтобы понять: так не надо делать, и двигаться в этом направлении является ошибкой. Именно тогда общие вопросы этнографии были доведены до состояния абсурда, до полной исчерпаемости теоретических возможностей этой научной отрасли. Сам показатель исчерпаемости указывает на искусственно выстроенный теоретический фундамент советской этнографии. В этом и состоит главная беда и ограниченность теоретической базы советской этнографии, что ресурсы ее были исчерпаемы, хотя наука всегда должна иметь