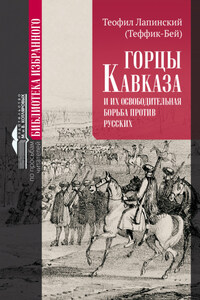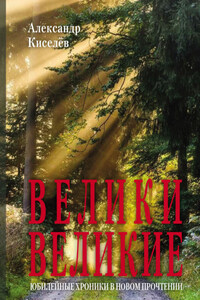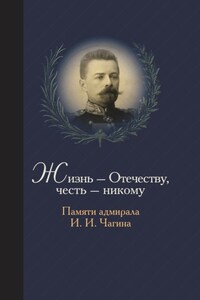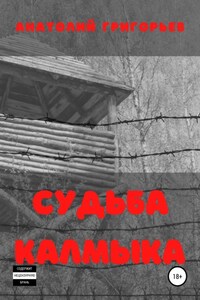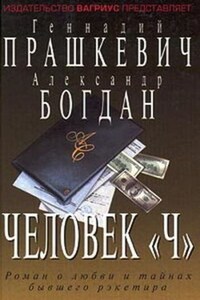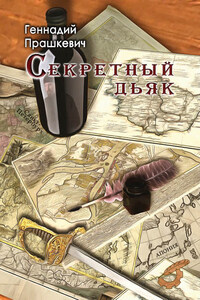Девчонка. Ресницы длинные густые чёрные. И такие же глаза: чёрные-чёрные, большие. Волосы пытались зачесать назад, но они, иссини чёрные, густые, упорно возвращались к своим природным направлениям. Волосы не соответствовали характеру этой девочки. Она напоминала испуганного волчонка, была робка, застенчива, стеснительна.

Одна в большой комнате барака. Комната солнечная, светлая и чистая-чистая. Всё знакомо здесь девочке: диван, обитый чёрным дерматином, с высокой спинкой и полочкой, металлическая кровать, сундук, стол, покрытый вязанной крючком белой скатертью (мама вязала). В сундуке – тулупы, привезённые издалека, из Кустаная! В углу – тяжёлое чёрное отцовское пальто. На стене висит не менее чёрная тарелка – радио. А на полу – швейная машина «Зингер». Очень нравилось девочке перебирать шпульки и шпонки. Умными и серьёзными становились чёрные глаза, когда девочка взбиралась на диван и с благоговейным трепетом прикасалась к страницам подшивки газет «Гудок». Тут же лежала тетрадь со схемами или чертежами. Непонятные линии, но чёткие, строгие, элегантные. Загадочно и возвышенно Длинные пальцы худенькой смуглой руки не уставали час за часом день за днём перелистывать страницы с зашифрованными рисунками: рычаги, колёса, паровоз.

Дощатая дверь резко распахнулась, едва удержавшись на петлях. В прозрачном дверном проёме стоял солдат в шинели. С правого плеча на пол упал пустой вещь-мешок. Папа! Вернулся с финской войны отец. Весной 1940 года черноглазая получила первый урок по распилу брёвен. Морозы-то на Урале нешуточные. Отец пилил, а девочка, как могла, направляла движение пилы с другой стороны. Ах, как с папой было хорошо! Добрый, весёлый, обаятельный, общительный. Круглое лицо, глаза из щёлочек вмиг превращаются в смеющиеся большие; курносый нос. Машинист паровоза, грамотный, коммунист. Уважаемый человек!
Пролетела весна. Девочка иногда задумывалась, что давно не видела маму. В памяти всплывало тепло маминой руки, которую она держала, когда шла рядом по коридору барака. Соседки судачили: «Мария перешила своё свадебное платье дочери». «Значит, платье красивое», – думала девочка. А пока девочка была одна… Нет, не одна. Взяла её к себе соседка тётя Наташа Коншина. Своих детей мал-мала, есть нечего. Да, ничего, место на полатях найдётся. Жили шумно, весело. Девочка вместе с детьми бегала по бараку, прыгала. А вечерами рабочие железнодорожного депо, женщины и немногочисленные мужчины, собирались вместе, дети затихали на полатях, и тихо, как издалека, лилась песня: «Мой костёр в тумане светит…». Пение захватывало девочку больше, чем чертежи или шпульки…
Память не сохранила подробностей, когда мамы не стало. С какой-то женщиной черноглазая девочка ехала в трамвае, потом шла по парковой дорожке Первой городской больницы. Долго сидели на скамейке. Вокруг радовало теплом и зеленью лето. Ждали. Неожиданно с правой стороны подошла ещё какая-то женщина, худая и неприметная. С высоты своего четырёхлетнего роста девочка не вглядывалась в лицо, а видела перед собой байковый сине-серый неприглядный больничный халат.