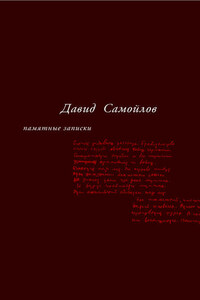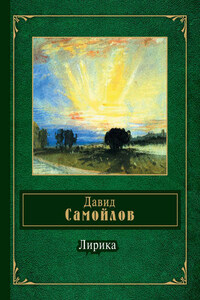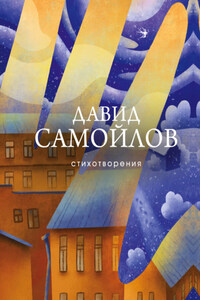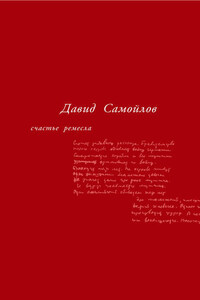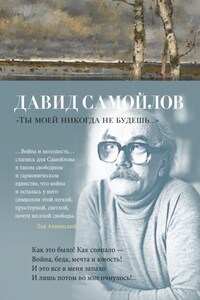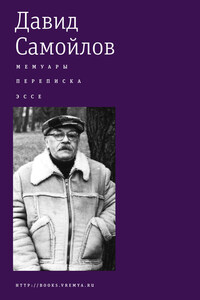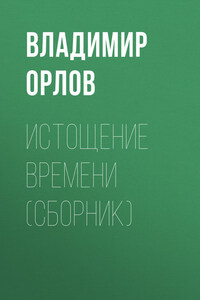© Давид Самойлов, наследники, 2014
© Г. И. Медведева, А. С. Немзер, составление, 2014
© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2014
© Валерий Калныньш, макет и оформление, 2014
© «Время», 2014
* * *
«Превращаюсь в прозу, Как вода – в лед…»
Проза поэта – особая область сцеплений. И путь к ней (или его отсутствие) всякий раз окрашен индивидуально.
Д. С. в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) так часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, так сетовал на упорное нежелание Бориса Абрамовича продолжать столь удавшийся опыт, что в конце концов выходило: не себя ли уговаривал обратиться к прозе, без боязни изменить привычному, обжитому лику стихотворца.
Где-то во второй половине 60-х годов он начал заново оглядываться на уже миновавший и взятый – и человечески, и творчески – «второй перевал». И думать и говорить о том, что «весь опыт не умещается в стихи». Что это было? Хрестоматийное «лета к суровой прозе клонят»? Да. Но не только.
Кончался «моцартианский» период жизни и творчества, ретроспективно, как воспоминание о самом себе, изображенный в стихотворении «Дуэт для скрипки и альта». Вольная, легкая, непринужденная поступь стиха и поступка еще была и длилась, но уже перестала нравиться. Не другим – себе. Неадекватность томила и предвещала «начало новых перемен». Но поскольку гармонические натуры, к которым принадлежал Д. С., не умеют долго томиться, выход был найден не то чтобы быстро, но естественно, как будто бы он всегда существовал.
Проза начала писаться стихийно, во время пребывания в больнице в 1969 году[1].
Вроде бы от скуки и досуга; на самом деле – из-за невозможности признать ограниченное обстоятельствами пространство передвижения и общения. Называлось оно словом «клетка» и означало и любую иную житейскую формулу прикрепленности, не равную внутреннему состоянию, вынужденную запертость не обязательно по медицинской надобе.
К той поре стали проступать очертания «клетки», уготованной не для одного Д. С. и куда более душной, чем спертый воздух многоместной больничной палаты. За подпись под письмом в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова он попал в проскрипционные списки. Печатные дела, и без того шедшие со скудным скрипом, свелись к нулю: был рассыпан набор «Равноденствия» и отодвинут выход «Дней». Материальное положение было яснее ясного: одни долги, без близкой возможности с ними разделаться. Весь 1968 год после прошедшего в январе судебного процесса над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым литературное начальство в трогательном единстве с ГБ выстраивало «клетку» для неразумных писателей, подставивших свое благополучие под удар. Надо было решать, как жить и действовать.
Решение Д. С. состояло из двух частей: не уходить в сам– и тамиздат, не порывать связи с читателем стихов и ждать своего часа для продолжения разговора с ним с печатных страниц. Здесь не место более подробно развивать эту тему, продлившуюся на два десятилетия вперед. Важно лишь подчеркнуть, что на едва проклюнувшуюся, еще не оперившуюся прозу выпадала двойная нагрузка: становление замысла и стилистики шло об руку с худшающими, «мутными временами» (определение Д. С.), и вся тяжесть размышлений об исторической судьбе России и русской литературы и своего поколения в ней, не могущих с полнотой и безоглядностью прорваться к читателю в поэзии, добровольно и неминуемо уходила в подводную часть айсберга – прозаические штудии.
Уже у истока проза стала способом свободного высказывания, не сдерживаемого ни внешней, ни внутренней цензурой, ни давлением индивидуальной стиховой структуры, долго (вплоть до «Залива») сохранявшей несущие черты герметичности, лишь частично совпадающие с общепринятым «эзоповым языком». Влияние прозы на стихи в последующие периоды – тоже особый ракурс и предмет отдельного исследования. Хочется сказать только одно: закон обратной связи действовал на протяжении более чем двадцати лет, что писалась проза, с той или иной долей регулярности.