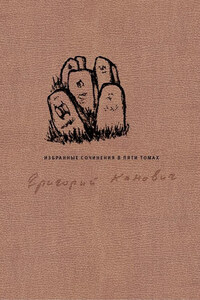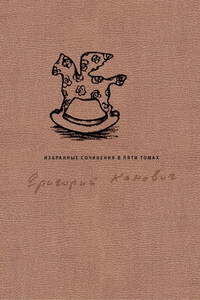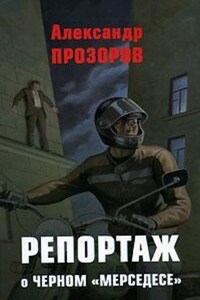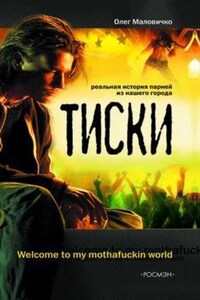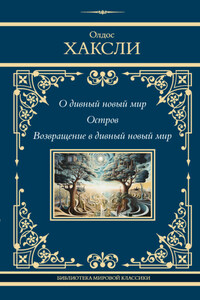Ицхак всегда приходил туда первым. Не потому, что жил ближе всех к Бернардинскому саду, где все дни недели, кроме воскресенья, они собирались под старыми княжескими липами, бесшумно и благостно шелестевшими своими листьями, как ангельскими крыльями, а потому, что он, Ицхак, как служка Мейер, открывал их общую, раскинувшуюся под открытым небом молельню, в которой каждый из собиравшихся был и богомольцем, и раввином, и старцем, и юнцом. Служки Мейера давно не было в живых, но Ицхак неизменно вспоминал о нем с какой-то тихой и благодарной грустью, с почти что греховной завистью: ему, мол, хорошо, он – там, у Божьего престола. Ицхак вспоминал Мейера чаще, чем своих родных братьев Айзика и Гилеля, расстрелянных в светлое, прозрачное, как подвенечное платье, утро, при самом въезде в местечко, в березовой рощице, сбегавшей с пригорка прямо к реке, к быстротечной таинственной Вилии, в которой он, Ицхак, неслух, любознательный, как только что родившийся козленок, дважды тонул: один раз весной, другой – в середине лета, но так и не утонул. Видно, суждено ему было распрощаться с миром не в воде, а на суше, хотя, как подумаешь, в воде было бы, пожалуй, и лучше – плывешь себе, как живой, кругом рыбы и водоросли, качаешься на волне, словно в люльке, плотва и уклейки подплывают к тебе, торкаются в твои бока, щекочут – благодать.
Если бы в те неразумные, благословенные, купельные времена ему, Ицхаку, безусому, долговязому юнцу кто-то сказал: дотянешь, парень, до восьмидесяти пяти с гаком, дождешься дня, когда твои глаза потускнеют, как припрятанное скупцом серебро, и ты не сможешь отличить, где река, а где небо, где свет, а где тьма, интересно, что бы он такому предсказателю-прорицателю ответил? Будь он, предсказатель, даже местечковым раввином Менделем, Ицхак ответил бы ему: «Вы с ума сошли, рабби! На кой черт мне восемьдесят пять несчастий, восемьдесят пять хомутов, которые натирают шею и которые ни на один день, ни на один час не скинешь?!»
Тогда, в те неразумные, проносившиеся над его юностью, подобно цыплячьему пуху, времена, Ицхак хотел жить столько, сколько птица – лишь бы летать, лишь бы щебетать с утра до вечера, лишь бы воспарять все выше и выше.
Он не хотел жить столько, сколько лошадь дяди Рахмиэля, занимавшегося извозом, – что за жизнь, когда тебя день-деньской хлещут кнутом, хотя и кормят досыта, и стреноженную выпускают на лужайку?
Ицхак Малкин всегда приходил в Бернардинский сад, в эту молельню под липами, первым и потому, что мог какие-нибудь четверть часа спокойно предаваться воспоминаниям – ему не докучали ненужными вопросами, он был один, как Бог, никого из посторонних вокруг не было, только он и листья, только он и небо, только он и растаявшая в утреннем тумане, изорванная в клочья его жизнь. Правда, никто из тех, кто приходил позже, чем он, не был посторонним, они были для него роднее родных. Да простит ему за такое кощунство Господь, но что толку в мертвых родственниках? Разлетелись в разные стороны и живые – кто в Америку, кто в Канаду, кто в Израиль, кто в Германию, в ту самую Германию, где он, рядовой Красной армии Ицхак Малкин, встретил Победу и где почти что полгода, до самой демобилизации, обшивал полководцев-победителей. Сидел у окна в расхищенном галантерейном магазине, тыкал иголкой в тяжелое неподатливое сукно, поглядывал на все еще чинных, но настороженных немцев, прогуливавшихся по улице, и вспоминал окопы под Прохоровкой и Алексеевкой. Ладно, он-то что, все-таки вернулся из Потсдама с трофеем – с машинкой «Зингер». А что досталось гвардии сержанту Натану Гутионтову? Две медали «За отвагу» и деревяшка, которой его наградили в военном госпитале в Тильзите. За деревяшку – спасибо. Но велика ли радость быть парикмахером с деревянной ногой – попробуй-ка выстоять на ней перед зеркалом целый день, целую оставшуюся жизнь!