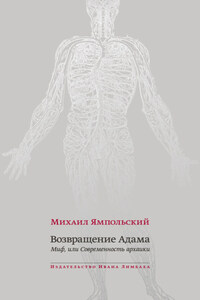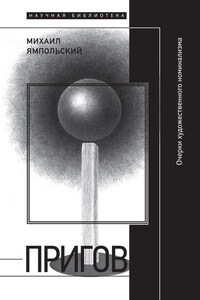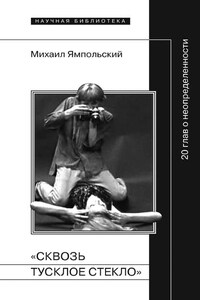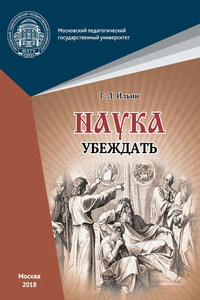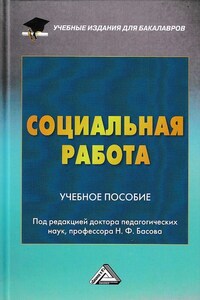Напутствие перед входом в парк
Эта небольшая книжка возникла из чувства тревоги. Я, как и многие другие, наблюдал безостановочное разрастание дисперсного (то есть лишенного внятного центра и единой воли) насилия, постепенно захватывающего Россию. Но одновременно меня не оставляло удивление, что на фоне этого распространения насилия происходит своего рода «цветение» культуры. Когда я говорю о «цветении», я вовсе не имею в виду неожиданный взрыв креативности, производящей выдающиеся произведения искусства. Скорее наоборот, чем активнее действует культурная индустрия, тем меньше значительных произведений является на свет. Впрочем, этот феномен сопровождает взрыв культурной индустрии во всем мире. Премьер, вернисажей, чтений, лекций как будто становится все больше и больше, постоянно открываются новые культурные институции, а старые реформируются и расширяются, выставки привлекают толпы народа, а значимых произведений на фоне всей этой активности оказывается до смешного мало. Но особой московской приметой можно считать то, что бурление культуры тут, в отличие от других стран мира, сопровождается таким же интенсивным кипением насилия.
Не так давно мне казалось, что расширение зоны насилия можно объяснить распадом государства и составляющих его институций, способных управлять происходящими в обществе процессами. На смену институциональной активности, в силу распада ее механизмов, как я думал, приходит повсеместное насилие, в котором не нуждается нормально функционирующее государство, опирающееся на авторитет, силу законов и работу бюрократии. Такую точку зрения я высказал в беседе с Ириной Барской и Александром Марковым, опубликованной на сайте Gefter.ru (выдержки из этой беседы приводятся в приложении к книге).
Но чем больше я размышлял о феномене насилия в российском обществе, тем больше приходил к выводу, что его основа лежит не в плоскости институций и их разрушения, то есть не в плоскости того, что вслед за Максом Вебером традиционно изучалось «политической» или «государственной» социологией. Для Вебера и его последователей речь шла об анализе «власти» (Macht) и «господства» (Herrschaft) в контексте административной деятельности и активности групп населения (Verband), стремящихся к перераспределению власти и господства в обществе. Иначе говоря, насилие (для Вебера – в плоскости государственной активности – легитимное), здесь лежит в горизонте политики, а администрация и группы населения преследуют определенные политические цели. Именно этого веберовского механизма я и не видел в России. Власть главным образом была озабочена самосохранением и, казалось, не имела никаких других политических целей. Но и само общество, крайне аморфное и инертное, не стремилось к созданию политических объединений. Я все больше приходил к мнению, что в России нет политики в веберовском смысле, а легитимное насилие все больше размывается и становится почти неотличимым от криминального насилия. Именно это ощущение и обратило мое внимание на культуру – эту деполитизирующую силу, отменяющую в своем лоне все полярности и дифференциации и все более обращающуюся к меланхолии по прошлому и погружению в туманность под названием «память». В 2007 году Рене Жирар писал о нарастающей беспомощности «политического разума» и заключал: «…я все более убежден, что мы вступили в период, когда антропология становится более релевантным инструментом, чем политические науки»[1]. В принципе я согласен с Жираром: для понимания некоторых общественных процессов мы должны отказаться от принципов рациональности, сформулированных в эпоху Просвещения, и выработать категории новой рациональности. Политическая теория с ее бесконечными анализами различных государственных устройств, разнообразных форм демократии и авторитаризма и описаниями всевозможных структурных гибридов, по моему мнению, зашла в тупик и должна хотя бы частично уступить место философской антропологии, которая способна размышлять над функционированием культуры и общества как некоего единого целого. Несколько лет назад я написал книжку о Кире Муратовой с подзаголовком «опыт киноантропологии»: уже тогда я ощущал невозможность понимания творчества Муратовой в категориях киноведения. В настоящей книжке этот подход расширен. В своем анализе я во многом опирался на идеи Жоржа Батая, Жана Бодрийяра и Рене Жирара, хотя со многими положениями их теорий я не согласен. Идея Батая о том, что конфигурация общества может рассматриваться вне политики, как результат сложного взаимодействия однородного и инородного, была для меня исключительно ценной, так же как глубокие интуиции Бодрийяра и Жирара о взаимосвязи однородности и насилия.