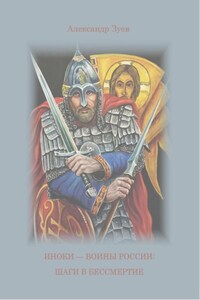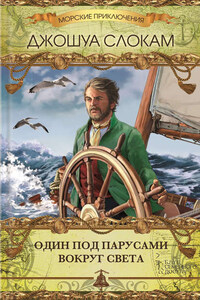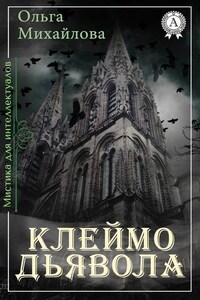Расколовшийся с грохотом и скрежетом на несколько рваных частей мир выбросил его тело в другую реальность. Его забрали из мира , в котором он (просто «он», поскольку ни имени, ни названия места где родился и жил, он не знал; память была стерильна как снег на Джомолунгме) блуждал в затягивающем мрачно – сером тумане в сопровождении хвостатых существ: то ли обезьян неизвестной породы, то ли бесов. Здесь его приняли бесцеремонно, точнее – грубо и безжалостно. Неизвестный голос, бесовски прозвучавший в воспаленном мозге, скрипуче пояснил: «Здесь тебе крандец, братуха». Кто-то очень больно пнул его в левое бедро стальным предметом. Ужасная боль пронзила тело и проникла в мозг, который мгновенно заполыхал острыми болевыми импульсами.
Он открыл глаза и застонал. Лучше б он это не делал. Тот тупой предмет, который больно пнул его в бедро, оказался здоровенным армейским ботинком. И теперь этот ботинок больно прижал его ухо, разрывая кожу, наехал на открывшийся глаз, проворачиваясь, царапая живую плоть. Черепная коробка затрещала словно грецкий орех, умело раскалываемый опытной рукой, точнее – ногой.
Визгливый голос владельца армейского берца, прижимающего его ухо, многократно полифонически повторяясь, казалось, клевал его откуда-то сверху:
-Ты что …, облевал все здесь, обгадил, теперь и пройти нельзя. Убью …
Через минуту другой голос – уверенный бас прервал визгливого обладателя ботинка:
– Уймись, Вован, это же Репа, местный алкаш, у него здесь рядом живут жена и дочь. Вали отсюда, ты ему все лицо расцарапал, болван. Если этот придурок сдохнет, тебя во всем обвинят и закатают лет на десять в пионерлагерь строгого режима.
Скоро ботинок продолжил цоканье стальными подковами куда-то в сторону. Боль от сокрушительных подошв ушла. Но лучше б она осталась, потому что внутри все начало ломать и выворачиваться. Не осталось ни ощущений, ни мыслей, ни слов – ничего. Все тело скручивало, трясло, позвоночник выгнулся дугой и тут же глухо, утробно стукнулся об асфальт. Мальчишеский голос пропищал:
– Смотри! Как его ломает! – Кто-то степенно пояснил: «Так он технический спирт с алкашами пил. Все уже сдохли, а этот живучий».
И тут же другой детский голос с надрывом прокричал:
– Папка! Папка! Вставай!!!
Несколько рук оттащили его с солнцепека, в сторону от тротуара. Детские руки поднесли ко рту пластиковый стаканчик с водой. Но попытка сделать несколько глотков оборвалась очередным приступом тошноты. Ему страстно захотелось вернуться в тот самый серый мир с обезьянами или с бесами, а может, лучше в никуда, только бы не оставаться в этом жутком мире ломающей, выворачивающей наизнанку боли.
Последующие сутки были для него сущим адом: грязный матрас, деревянный скрипучий пол, заляпанный смесью краски и грязных темно серых прожилок. На кровать его укладывать не собирались, поскольку непроизвольные конвульсии в любой момент могли бы выбросить его на пол. В комнату несколько раз заходила женщина небольшого роста, с отечным, утерявшим женские черты лицом. Она не утруждала себя особым уходом за больным, просто смотрела на него мутными бесчувственными глазами. При этом он осознавал, что никогда не знал эту женщину и никогда не видел это убогое жилище. Единственная ниточка в сознании связывала его с действительностью – это девочка, звавшая его «папка». Что-то было в этом голосе родное, пробившееся сквозь пелену полного забвения.
В голове роились другие воспоминания, точнее что-то другое пробивалось через его восприятие этого совершенно незнакомого, может, просто забытого мира.
Женщина, которая, возможно, была его женой в той, неизвестной ему жизни, наконец снизошла до лечения. Случилось это вечером. Она подошла к матрасу, присела и сунула ему в руки стакан, в котором плескалась прозрачная, неприятно пахнущая жидкость, водка.