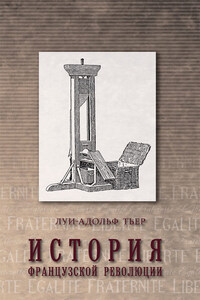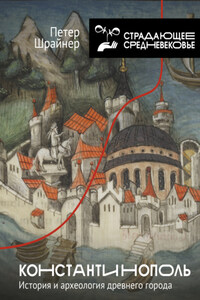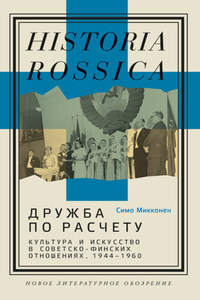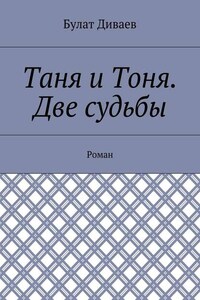Это исследование когда-то было написано в качестве главы для подготовленного мной в соавторстве с Маршаллом Салинзом сборника эссе о божественном институте монархии [1]. В период с 1989-го по 1991 год, когда я проводил пилотные полевые исследования на Мадагаскаре, я впервые открыл для себя не только то́, что некогда там во множестве обосновались карибские пираты, но более того: что потомки их составляют сегодня обладающую самосознанием группу (этот факт обнаружился во время моего короткого романа с женщиной, по происхождению связанной с островом Сент-Мари [2]). Впоследствии меня поразило то, что провести среди них систематические полевые исследования никто и никогда не удосужился. Я даже обещал себе когда-нибудь восполнить этот пробел; но осуществиться этим планам неизбежно препятствовали всевозможные непредвиденные обстоятельства. Быть может, когда-нибудь я всё же сделаю это. Примерно в то же время я разжился в Британской библиотеке копией рукописи Мейёра на необычайно больших листах, покрытых мелким бисером почерка восемнадцатого века, прочесть который уже стоило известного труда; копия эта долго-долго выглядывала потом из утеса книг и рукописей, растущего возле панорамного окна в моей комнате в нью-йоркской квартире, где прошли мое детство и юность. На протяжении многих лет, пытаясь заниматься чем-то иным, я не раз испытывал ощущение, будто рукопись манит меня чуть укоризненно из дальнего угла комнаты. Позже, после того, как в 2014 году я потерял дом из-за махинаций полицейской разведки, я сканировал рукопись от начала до конца, вместе с семейными фотографиями и другими документами, слишком громоздкими, чтобы брать их с собой в Лондон, и в конце концов сподобился ее расшифровать.
Мне всегда казалось чудом, что текст рукописи так никогда и не был опубликован: в особенности потому, что на оригинале из Британской библиотеки, который был изготовлен на Маврикии, содержалась пометка о том, что в Малагасийской академии в Антананариву доступен машинописный вариант рукописи и что тем, кто пожелает на него взглянуть, следует обращаться к некоему г-ну Валетту. С тех пор в печати появился ряд исследований французских авторов, которые очевидно воспользовались этим любезным указанием, и отдельные фрагменты машинописного текста в их пересказах, но только не сам протограф, не сам ученый труд, изобилующий бесчисленными ценнейшими примечаниями.
Наконец, я осознал, что материала о пиратах собралось достаточно для интересного самостоятельного исследования. Поскольку эссе предполагалось опубликовать в книге о королях, изначально озаглавлено оно было – «Пиратское Просвещение. Мнимые короли Мадагаскара». Подзаголовок отсылал к небольшой книжке Даниеля Дефо о Генри Эвери. В процессе работы текст, однако, быстро распухал. Очень скоро рукопись разрослась до целых семидесяти страниц, набранных через один интервал, так что я всерьез задавался вопросами: не будет ли в итоге объем сборника чрезмерно велик, и не слишком ли я удалился от предмета исследования, изначально ограниченного темой королей-мошенников (и более общим предположением: мол, в известном смысле все короли – самозванцы, просто в разной степени), чтобы был оправдан столь широкий охват материала.
Под конец я остановился на том, что никто не любит пространных эссе; напротив, короткая книжка всякому по нраву. Отчего бы не сделать из эссе самостоятельное исследование, которое могло бы само за себя постоять?
И вот – то, что у меня получилось.
* * *
Упустить шанс опубликовать книгу в издательстве «Либерталия» [3], как оказалось, было просто невозможно. Образ Либерталии, утопического пиратского эксперимента, остается неисчерпаемым источником вдохновения для тех, кто придерживается левых либертарианских взглядов; им всегда казалось что, если ее и не существовало на самом деле, она должна была существовать; или если она не существовала в буквальном смысле – если даже не было местности, которая бы так называлась, то само существование пиратов и пиратских обществ было уже своего рода экспериментом, и что даже в самóм зародыше того, что со временем стало называться Просвещением – идеала, который в среде революционеров рассматривается теперь как ложная мечта об освобождении, породившая в мире невообразимую жестокость, – отчасти присутствовало искупительное обещание подлинной альтернативы.