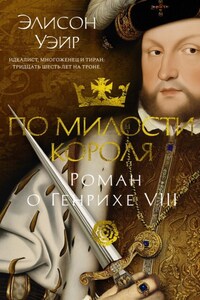Глава 1
Париж, август 1151 года
Господи Боже, не дай мне выдать себя, безмолвно молилась королева Алиенора, с изяществом восседая на резном деревянном троне рядом со своим мужем, королем Людовиком. Королевский двор Франции собрался в мрачном гулком зале Дворца Сите, который занимал половину острова Сите на реке Сене и выходил на громаду собора Нотр-Дам.
Алиенора всегда ненавидела этот дворец с его мрачной, крошащейся каменной башней и темными, холодными комнатами. Она пыталась украсить гнетущий зал дворца дорогими гобеленами из Буржа, но тот все равно оставался суровым и угрюмым, несмотря на лучи летнего солнца, проникавшие сюда сквозь узкие окна. Ах, как тосковала она по изящным замкам своей родной Аквитании, построенным из светлого податливого камня на вершинах поросших сочной зеленью холмов! Как ей самой не хватало Аквитании и того мира на избалованном солнцем юге, который она вынуждена была покинуть столько лет назад. Но Алиенора давно научилась управлять своими мыслями и не пускать их в опасную сторону. А если это все же случалось, то она боялась сойти с ума. Нет, сейчас надо сосредоточиться на церемонии, которая вот-вот начнется и на которой она должна наилучшим образом сыграть свою королевскую роль. Алиенора столько раз обманывала надежды Людовика и Франции – чаще, чем они об этом догадывались, – что теперь-то уж постарается выглядеть как можно лучше.
Перед королем и королевой толпилась высшая знать и вассалы Франции, пестрая шайка в мехах и в алых и коричневатых одеяниях, а также знатные представители Церкви, все, кроме одного, облаченные в сверкающие, шуршащие одежды. Собравшиеся ожидали извещения о конце войны.
Людовик казался изможденным и усталым, на щеках его все еще играл нездоровый румянец – последствия лихорадки, на несколько недель уложившей короля в постель. Но теперь он, подумала Алиенора, хотя бы на ногах. Конечно, королю о том, что он должен подняться с постели, сказал Бернар Клервоский, этот всюду сующий нос аббат, который стоит в стороне, в одеянии из суровой ткани, а когда говорил Бернар, Людовик и весь остальной христианский мир неизменно подпрыгивали.
Алиенора не любила Людовика, но была готова на многое, чтобы избавить его от лишних забот, в особенности теперь, когда король сдал духом и телом, а сама она чуть не тряслась от стыда и страха перед возможными последствиями ее разоблачения. Алиенора считала себя в безопасности, думала, что унесет тяжкий грех с собой в могилу. Но вот теперь тот единственный человек, что мог невзначай, жестом или взглядом, выдать ее, поставить под угрозу ее жизнь, должен был через несколько мгновений войти через огромную дверь в конце зала: Жоффруа, граф Анжуйский, которого все называли Плантагенетом[2] по цветочной метелке, что он обычно носил на шляпе.
Но вообще-то, горько подумала Алиенора, вряд ли Людовик может порицать ее за то, что она сделала. Ведь именно он, а вернее, церковники, главенствовавшие в его жизни, обрекли ее на несчастное существование ссыльной в этом неприветливом северном королевстве с серыми небесами и мрачными людьми, вынудили вести этот невыносимый, почти монашеский образ жизни в изоляции от мира, в обществе ее дам. Алиенору на четырнадцать лет лишили всяких развлечений и удовольствий, и только несколько раз украдкой смогла она на короткие мгновения познать другую жизнь. С Маркабрюном[3], с Жоффруа и позднее – с Раймундом. Сладкие грешки, о которых можно говорить лишь в исповедальне, но не дай бог узнать о них ее мужу Людовику. Она была его королевой, а Жоффруа – его вассалом, и оба они нарушили свои клятвы верности.