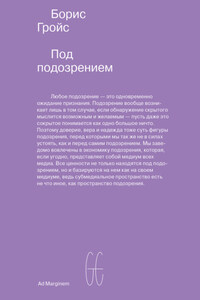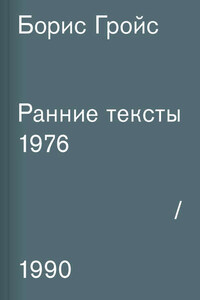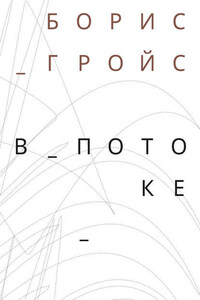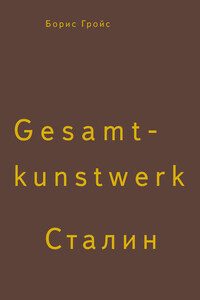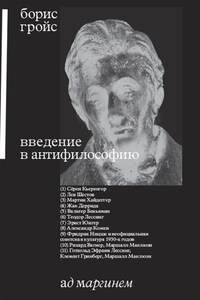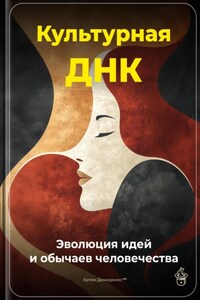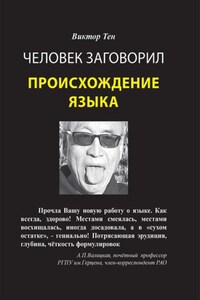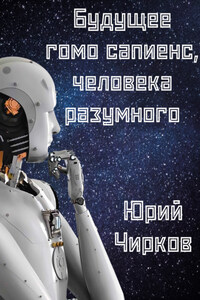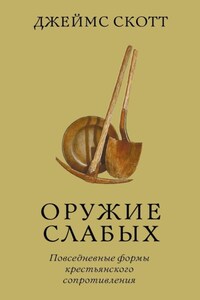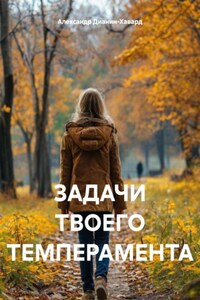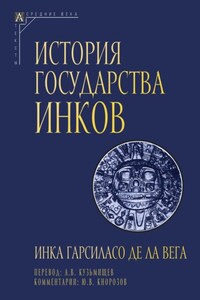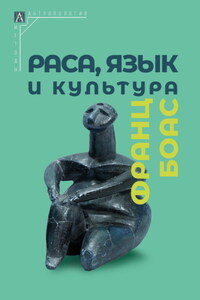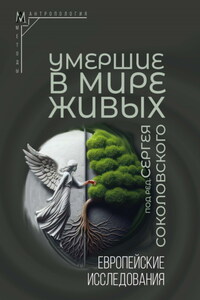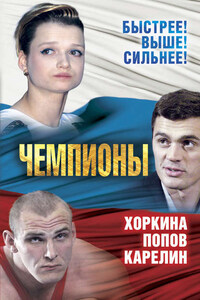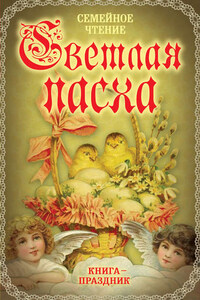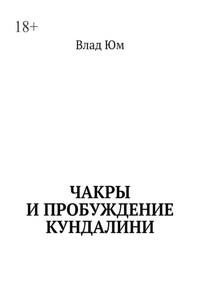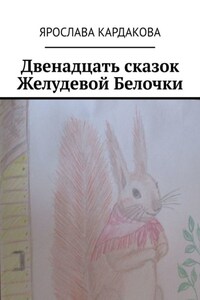Работа над этой книгой была продиктована желанием ответить на вопрос, какая сила служит носителем архива нашей культуры и обеспечивает ему долговечность, – вопрос, не дававший мне покоя с тех пор, как я написал книгу О новом[1]. Поэтому мне кажется необходимым разъяснить причины, которые привели меня к этому вопросу. В книге О новом я описал «культурную экономику»: обмен, происходящий между архивом культурных ценностей и профанным пространством вне этого архива. В архиве собираются и хранятся вещи, которые важны, релевантны, ценны для определенной культуры; все прочие – неважные, нерелевантные, неценные – вещи остаются в профанном пространстве за пределами архива. Однако архив культуры постоянно изменяется: что-то включается в него из профанного пространства, а что-то исключается из архивных фондов как более не релевантное. В книге О новом я попытался ответить на вопрос, какими критериями руководствуется культура, когда она признает ценность какой-либо вещи из сферы профанного и отводит ей место в своем архиве. А главное: почему архив не остается идентичным самому себе? Почему в него постоянно поступает что-то новое?
Обычный ответ на этот вопрос хорошо известен: важно то, что важно для жизни, для истории, для человечества, – это важное должно быть принято в архив, ведь задача последнего заключается в том, чтобы репрезентировать жизнь вне архивного пространства. Конечно, взгляды на то, что важно для жизни и для людей, значительно расходятся – отчего репрезентация в архиве кажется в первую очередь предметом политики репрезентации в рамках борьбы за репрезентацию. Существует множество разных мнений на счет того, что же должен репрезентировать архив – и кто вправе управлять архивом и определять его состав. Похоже, это прежде всего вопрос власти: вопрос властной позиции, позволяющей решать, что важно, релевантно и достойно архивации, а что неважно, нерелевантно и должно оставаться за пределами архива. Вопросы о распределении властных позиций в архиве, а также о зависящих от этого распределения актах включения в архив и исключения из него вызывают бурные дискуссии, как и любые вопросы, расцениваемые как политические, то есть такие, по поводу которых каждый не только может, но и должен иметь свое мнение. В этих дискуссиях каждый принимает тот или иной аспект за существенный и считает, что принятое в качестве существенного его оппонентом на самом деле несущественно. Если же кажется, что несущественное всё же берет верх над существенным, значит – гласит общее мнение, – в игру вступили тайные интриги, властные махинации, а главным образом деньги – много, много денег.
Наблюдая весь этот спектакль, мы испытываем неизбежное удивление, когда замечаем наконец, что де-факто архив продолжает пополняться, причем к всеобщему удовлетворению. Похоже, становление архива следует при этом логике, которой в итоге подчиняются все участники этого процесса. И если кто-то возлагает слишком много надежд на свою властную позицию относительно архива и начинает действовать вопреки этой логике, то он эту позицию довольно быстро теряет. Абсолютной власти по отношению к архиву не существует – в конечном счете всегда побеждает имманентная логика становления архива. Архив собирает всё, что еще не было собрано. Поэтому реальность не является чем-то первичным, что должно быть репрезентировано во вторичном пространстве архива; наоборот – реальность вторична по отношению к архиву: она есть всё то, что остается вне архива. Таким образом, в книге О новом было сформулировано предположение, что de facto в архиве собирается не то, что важно для людей в «реальности» – ведь никто не знает, что для них важно, – а то, что важно для самого архива.