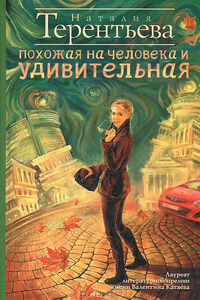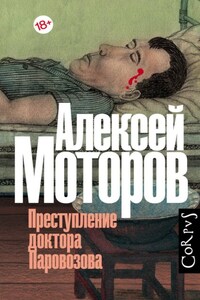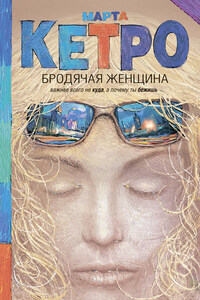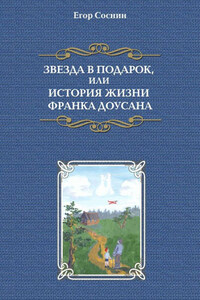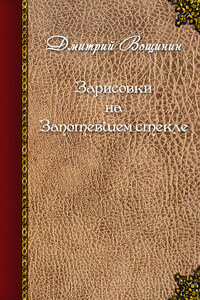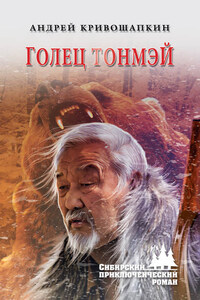«Тот, кто надзирает над этим миром на высшем небе,
Только он знает. А может быть, и он не знает?»
Ригведа. «Гимн о сотворении мира»
Это случилось внезапно. И я точно знаю, когда это произошло. Мне ничего не остается, как верить в это и жить с этим, потому что иначе не получается.
Я пытаюсь восстановить события того утра. Точнее, не события, а ощущения, поскольку я лежала неподвижно, с ногой, привязанной на растяжке.
В ту ночь мне приснился папа. Папа пропал без вести десять лет назад и, как и положено покойникам, снился мне ночами, когда шел дождь и мокрый снег. Но в ту ночь не было ни дождя, ни снега. Ночь была прохладная и сухая, обычная апрельская ночь. Папа в моем сне звал меня поехать на море, а я объясняла: «Да как же я поеду, ты же знаешь, если я сяду в самолет, он обязательно разобьется! А там, кроме меня, будет еще много людей…»
Проснувшись, я первым делом посмотрела в окно. Да нет, никаких признаков плохой погоды. Думать, почему должен разбиться самолет, в котором именно я полечу, я не стала. В палату вошел Константин Игоревич, мой лечащий врач.
И еще до того, как он, тяжело вздохнув, собрался спросить меня, как дела, я поняла, что у него очень сильная изжога. Она мучила его ночью, мучает и сейчас. Изжога у него бывает всегда, когда он ест тяжелые, толстые котлеты, которые жарит его теща, теперь уже бывшая. Но вчера он навещал сына и съел вместе с ним котлету. И теперь ему нехорошо и тошно, тянет желудок, печёт пищевод, и вдобавок остро, резко дергает печень. Все это за секунду пронеслось у меня в голове, одной, очень понятной и простой картинкой.
– Откройте, – кивнула я на бутылку «Ессентуков», стоявшую у меня на столике у кровати. – С пузырьками гораздо лучше, врачи просто не понимают. Сразу все пройдет.
– А… – начал было Константин Игоревич и осекся.
Секунду помедлив, он подошел к моему столику, открыл бутылку минеральной воды и с удовольствием выпил сразу полбутылки.
– Сейчас будет лучше, – сказала я. – Больше их не ешьте.
Константин Игоревич стоял передо мной. В одной руке у него была бутылка, в другой – металлическая крышечка. От растерянности врач замер с поднятыми руками. Потом не глядя поставил бутылку на столик, на самый край, чуть не уронив ее, пытаясь приспособить как-то на место крышечку, и стал отступать к выходу, бормоча:
– Ага, ну вот… Сейчас мы только… Прекрасненько…
Я подумала, что, если он вернется с психиатром, ничего удивительного не будет. Но он просто в тот день ко мне больше не зашел. Зато зашла медсестра Зоя Павловна.
Обдав меня довольно крепким запахом рижских духов (где она только их сейчас покупает?), Зоя Павловна решительно прикрепила мне тонометр и спросила:
– Как спалось?
– Нормально, – ответила я, понимая, что хуже, чем сегодня рано утром поступил с Зоей Павловной ее любовник, молодой татарин Рафаэль, поступить с женщиной просто нельзя. Конечно, она же христианка, для него – неверная, с которой можно делать все, что угодно, ни бог, ни люди не осудят. Вспоминать это невозможно, а забыть просто нельзя. Вот и как теперь жить, ощущая себя… Да нет! И слов-то таких нету! И никто не поймет, как ей тошно смотреть теперь на мужчин! И на женщин, с которыми так не поступали, как с ней…
Мне захотелось сказать Зое Павловне что-нибудь хорошее, несмотря на то что она туго перетянула мне ноющую после аварии руку и, померив давление, резко сдернула рукав тонометра.
– Зоечка Пална, а вы в восьмидесятом году, когда в Москве была Олимпиада, еще в школе учились? – спросила я невзначай.
– Я? – оторопела Зоя Павловна. – Нет… То есть… А что? – тут же подобралась она, подозрительно глядя на меня.
– Ничего… Просто… Думаю, может, мы в одной школе учились, вы похожи на одну девочку, на год старше меня была. Зойка… Красивая, гордая такая…