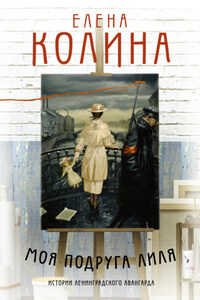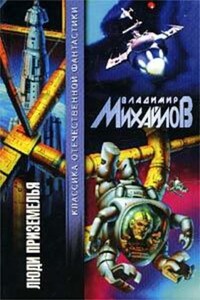– Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни собак, ни кошек, я их терпеть не могу, а в эту пятницу я как всегда спустилась утром в свое кафе, выпить кофе с их фирменной булочкой, посмотреть почту и новости, в эту рань еще только открывают, и воздух даже летом еще свежий, и улицы пустые, сын хозяина поливает шлангом тротуар перед витриной, раскрывает зонты, переворачивает стулья, а он как раз собачник, и собаки его любят, всегда крутятся возле него, а в этот раз какая-то новая псина, я в породах не разбираюсь, лохматая такая, и вдруг подошла ко мне и села рядом, смотрит так… И я посмотрела ей в глаза, и знаешь, странная вещь, никогда со мной такого не было, какой-то вдруг «клик», как с человеком, какая-то вдруг неожиданная близость, как будто узнали друг друга. И она еще так голову наклонила… В общем, теперь каждый раз, как я заходила утром в кафе, она уже ждала меня, подходила к столику и садилась, или ложилась рядом. Меня это так тронуло, что я сказала Ади, сыну хозяина, странно, говорю, никогда я собак не любила и даже внимания на них не обращала, а эта так странно смотрит, как в душу заглядывает, и привязалась…
А он говорит: «Да она слепая».
«История не кормит, а убивает», – сказал отец, когда я вознамерился идти в Университет на исторический, и тут же перечислил сгинувших родственников, неосмотрительно вступивших на скользкую «идеологическую» стезю. «Хватит с нас историков», добавил он. А я зачитывался университетскими учебниками и хрестоматиями по древней истории, как романами.
Тяга к первоисточникам завела в лабиринт нелегальной торговли книгами. Здесь велась волнующая охота за объявленными и сразу исчезающими изданиями Светония, Плутарха, Тацита в «литпамятниках» или за раритетами «ACADEMIA» начала тридцатых (однажды мне достался «Макиавелли» 34-го года с предисловием Каменева и стал с тех пор одним из моих любимцев), за дореволюционными изданиями энциклопедий и классиков философии. В этой погоне за книгами было все: страсть открытий, вызов тоталитаризму, жажда приключений, пороки зависти, жадности и азарта, даже мелкая уголовщина, ибо в ход, кроме обычного и малоэффективного накопления средств, шли надувательства, кражи, карточная игра и любовные обольщения, и всё – ради сладчайшего из наслаждений: ты и книга поутру, в перекрученных простынях…
Как-то я наткнулся у Февра, в его «Боях за историю», на обидный абзац: «Я люблю историю. Если бы не любил – не стал бы историком. Разрывая жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую – посвящая удовлетворению своих глубоко личных потребностей, – вот что кажется мне ужасным…». Отец тому же учил: сначала ремесло, а в свободное время – делай что хочешь. Согласный с ним в оценке текущего исторического момента – воспитал-таки потомственный пролетарий антисоветчика и махрового реалиста – я понуро отправился «приобретать специальность» в Электротехнический институт Связи, и получил «внутреннюю раздвоенность» по полной программе.
Униженный компромиссом, я возненавидел этот институт, кишевший жизнерадостными соплеменниками, увлекавшимися турпоходами и дозволенной задушевностью студенческой песни, и детьми военных, слегка фрондирующих на тему «роли армии в государстве» (опала Жукова была не случайной: дряхлеющий отец народов обезглавил победившую армию). Если бы не Вадим и еще два-три маргинала, не чуждых гуманитарных интересов, и поговорить было б не с кем. А поскольку я глубоко презирал «технарей», то и девицы в институте меня отталкивали: в их преданности учебе мне чудилось раболепие.