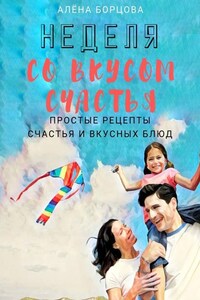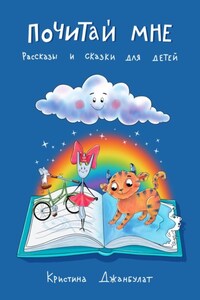Проще и интересней было бы начать разговор о моей встрече с экслибрисом с необычного человека, Николая Алексеевича Никифорова, тем более что он, действительно, познакомил меня с книжным знаком. И если говорить в двух словах, то можно было бы ограничиться этим утверждением, что я иногда и делал. Но жизнь не легенда, она противоречивей и интересней любой фантазии. В реальности всё значительно сложнее.
Ещё в детстве меня влекло к рисунку. Видя это, родители отдали меня в только что открывшуюся детскую художественную школу. Старшего брата, Аполлона, или Лоню, как мы его звали дома, в детстве отдавали учиться музыке, а вот меня в только что открывшуюся художественную школу. Видно, родители стремились, чтобы мы развивались всесторонне. Брата дома звали Лоня и Лоничка, а меня Шурик и иногда Шурча. В школе звали по фамилии, реже Шуриком, а в типографии Сашком, пока не стал начальником и, следовательно, Александром Степановичем, кем и остаюсь, по сей день.
У брата музыкальные занятия хоть и не заладились, но зато он проявил интерес к театру и вскоре стал ходить в театральную студию, говорят, неплохо выступал, играя в «Тётке Чарлей». Потом, будучи московским студентом, он играл в драмкружке. Интересовали его выступления на сцене и в дальнейшем, когда уже служил офицером в Академии химической защиты. Не случайно Лоня стал таким театралом, стремящимся не пропускать ярких спектаклей. Встречаясь с ним в Москве или во время его приездов в Тамбов, мы вместе часто бываем в театре.
Сцена это не моя участь. Но случилось так, что, учась, кажется, в десятом классе, я сыграл в чеховской «Хирургии». Причём, весьма успешно. В школе потом долго вспоминали, как я с одноклассником Олегом Дьяченко был на сцене. Олег создал убедительный образ занемогшего дьячка, а я – шалопая-зубодёра. Играл, помнится, с подъёмом. Открыли занавес, а я вальяжно курю, глядя, как в первом ряду сидят строгий директор Андреева и ещё более строгая завуч. Как тут не появиться куражу. Но это было единственное моё сценическое выступление.
До поступления в художественную школу моё времяпрепровождение было лёгким и не имело особого смысла. Папа тогда купил мне велосипед. Это была первая послевоенная продукция Харьковского велосипедного завода, поэтому и металл был очень мягкий, и качество такое, что велосипед часто выходил из строя. На нашей улице, совсем недалеко жили двое мальчишек, тоже с велосипедами, вот с ними я и гонял то по улицам, то на речку.
По стечению обстоятельств, друзья были из известных тамбовских купеческих семей. Семьи эти и при Советской власти жили богато. У Серёжи Толмачёва, который жил в Москве, но приезжал на каникулы, дед работал здесь в универмаге на прибыльном месте заведующего мануфактурным отделом, а отец был в Москве милицейским генералом. Ухоженный дом деда был за высоким забором и обслуживался прислугой. У приезжавшего тоже на каникулы Бори Гусева дед работал в обкоме, но не политиком, а по хозяйственной части (в молодости, сразу после революции, он командовал местной милицией). А Борин отец служил в КГБ и находился где-то за границей, кажется, в ГДР.
Наша семья не имела сада, был, правда, небольшой палисадник с дикой яблонькой. А у ребят были большие сады. Причём, у Толмачёва образцово ухоженный наёмным садовником, который, невиданное по тем временам дело, поливал из шланга яблони (в нашем доме, как и в большинстве, не было водопровода, и члены семьи, в том числе и я, ходили с вёдрами в «нашу» колонку, а при частой её поломке и на соседнюю улицу). Вот мы с мальчишками или играли в их саду, или бездумно катались на велосипедах. У Гусевых в сарае были старинные пишущие машинки интересных конструкций, старые велосипеды, граммофон и огромная коллекция грампластинок, которые мы слушали на трофейной немецкой радиоле. К тому же, у Гусевых были и фотоаппараты («Фотокор» с гармошкой и небольшой немецкий) и фотолаборатория, где мы иногда учились снимать. Полученные навыки мне потом неоднократно пригодились.