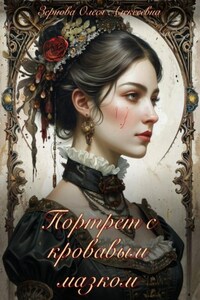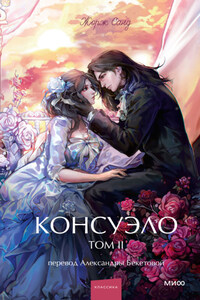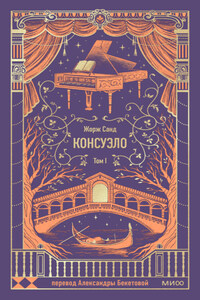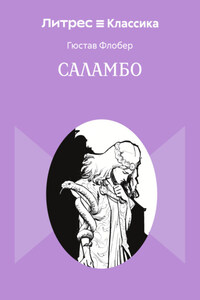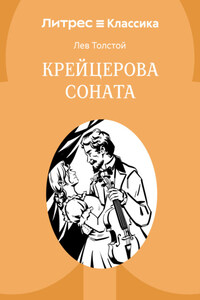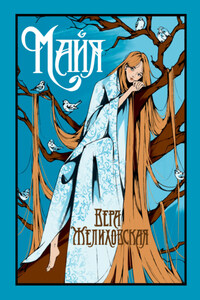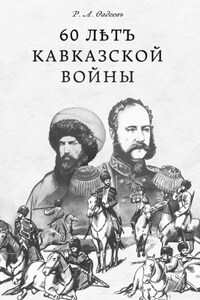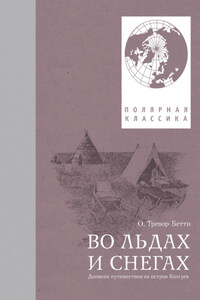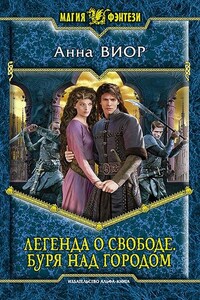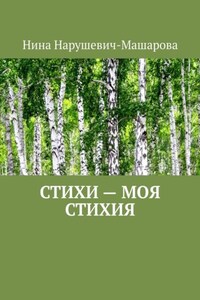Дорогой читатель,
Перед вами – не просто история. Это исследование одной из самых мучительных граней человеческого существования, особенно там, где личность скована долгом и знаком принадлежности. Эта книга – о чести мундира и о том, как она порой вступает в жестокое, неразрешимое противоречие с честью собственной, с голосом совести, звучащим глубже любых уставов.
«Честь мундира»… Эти слова отлиты в бронзу традиций, пропитаны кровью предков, выстраданы поколениями. Мундир – это больше, чем одежда. Это клятва. Это братство. Это незыблемая стена, за которой прячется смысл служения, гарантия порядка, сама идея верности. Он дает силу, защиту, принадлежность к чему-то большему, чем ты сам. Он обязывает. Беспрекословно.
Но что происходит, когда приказ, диктуемый этой самой честью мундира, шепчет тебе на ухо нечто, от чего холодеет душа? Когда долг перед системой требует поступиться тем, что ты считаешь единственно верным и человечным по меркам своей собственной, внутренней чести? Когда молчание или действие во имя «общего блага» или «высших интересов» становится предательством самого себя?
Вот в чем суть выбора, о котором эта книга.
Этот выбор – не между черным и белым. Он разворачивается в зыбкой, кроваво-серой зоне, где любое решение – это поражение. И иногда он решает всё и ничего одновременно.
Холодный лик, как мрамор гробовой,
Улыбка – лед, а в зрáчках – черный страх.
Беда скрывается во тьме ночной
И в сердце, в правде, что как нож, остра
Петербург, ноябрь 1867 года. Холод, пришедший с Финского залива, впивался в камни Английской набережной ледяными иглами. Особняк графа Зарницкого – тяжеловесное, ампирное здание с колоннами, казавшееся высеченным из серого петербургского тумана – тонул в ранних сумерках. Окна второго этажа, где располагались парадные покои, светились желтым, неровным светом свечей, словно заплывшие глаза.
Внутри, в малой гостиной, царила тишина, натянутая, как струна перед разрывом. Воздух был густ от запаха скипидара, дорогих духов «Вербена» и тлеющих в камине березовых поленьев. Графиня Елизавета Арсеньевна Зарницкая восседала на потертом бархатном кресле, поставленном специально для сеанса перед громоздким мольбертом. Ее красота была ослепительной и тревожной одновременно – золотистые волосы, уложенные по последней парижской моде, высокий, чистый лоб, большие глаза цвета морской глубины, в которых сейчас плескалось раздражение. Платье из палевого шелка с кружевами couleur de poussière1 подчеркивало ее хрупкость и делало похожей на фарфоровую статуэтку, готовую разбиться.
Художник, Владимир Петрович Лыков, стоял к ней спиной. Его фигура в скромном, но чистом сюртуке казалась еще более угловатой на фоне роскоши гостиной. Он работал с почти яростной сосредоточенностью, его кисть – тонкая колонковая – наносила мазки резко, уверенно, но в движениях чувствовалась дрожь. Не от холода – от напряжения.
– Владимир Петрович, – голос графини прозвучал резко, нарушая тишину. Он был чистым, звонким, но сейчас в нем слышались стальные нотки.
– Вы сегодня пишете, как извозчик, гоняющий клячу по мостовой. Ваша кисть… – она сделала паузу, наслаждаясь эффектом, – она груба. Совершенно лишена изящества. Прямо лыко драть ею, а не портрет писать!
Лыков замер. Спина его напряглась под тонкой тканью сюртука. По скулам, обычно бледным, расползлось нездоровое пятно румянца. Он медленно опустил кисть, не оборачиваясь.
– Виноват, ваше сиятельство. Я… ищу нужный тон. Оттенок вашего настроения сегодня… неуловим. – Голос его звучал глухо.
В проеме двери, затянутом темно-бордовой портьерой с вытканными золотыми орлами, застыла тень. Анфиса Семеновна Благовидова, компаньонка и негласный хранитель фамильных устоев Зарницких, в своем неизменном сером шерстяном платье и кружевном воротничке до подбородка. В руках – потрепанный молитвенник. Ее острый, как шило, взгляд метнулся от вздрагивающих плеч Лыкова к неподвижному профилю графини. В уголках тонких губ застыло неодобрение.