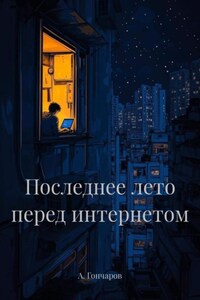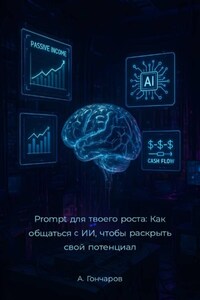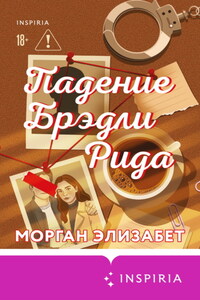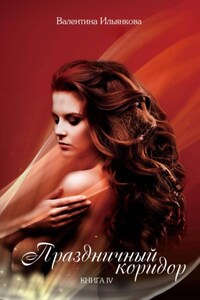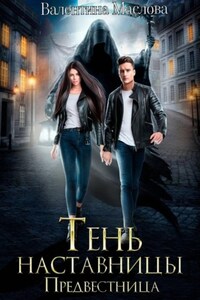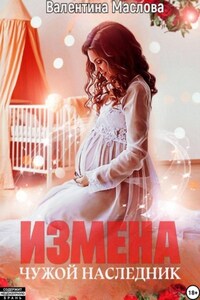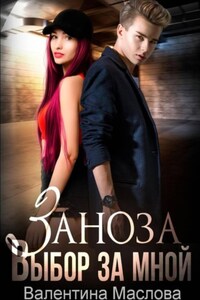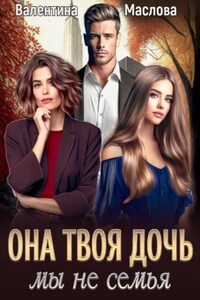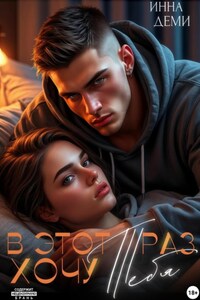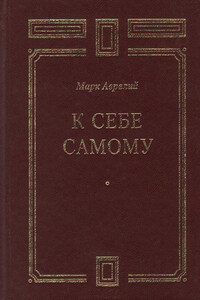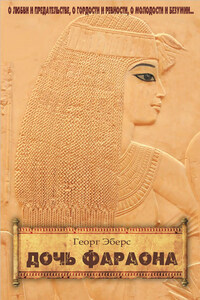Есть звуки, которые становятся метками времени. Для моего поколения таким звуком был вой модема – этот пронзительный, космический скрежет, словно из научной фантастики, который был саундтреком к нашему первому, робкому прорыву в цифровое будущее. Мы слышали его в темных компьютерных клубах, в квартирах друзей, чьи родители были побогаче, и он звучал как гимн новой эре. Но сама эта эра еще не наступила, она только подбиралась к нашим порогам, неслышной поступью, обещая все и сразу.
Лето 1997 года. Я чувствую, что оно было особенным, последним. Последней спокойной гаванью перед тем, как шторм информации и скоростей навсегда изменит ландшафт нашей жизни. Мир замер на самой острой точке перелома: в карманах у самых продвинутых и деловых лежали кирпичеобразные «мобильники», цена которых равнялась стоимости автомобиля, а на наших письменных столах, покрытых клеенкой, еще пылились толстые тома бумажных энциклопедий и словарей. Мы жили в аналоговом мире, пахнущем типографской краской, нагретым на солнце асфальтом и яблоками из бабушкиного сада, но в наше сознание уже впивались цифровые занозы – миражи иных пространств, обещание связи поверх голов и расстояний.
И я, семнадцатилетний Максим Огнев, вместе со всеми пытался понять, кто я и где мое место, пока почва под ногами медленно, но необратимо сдвигалась. Это история о том последнем лете, когда главные открытия делались не в Сети, а в собственном сердце. Лете, когда мы еще не «заходили онлайн», а просто жили, дышали полной грудью, любили, ошибались и искали себя на фоне глобальных перемен, еще не зная, что именно мы – тот самый рубеж, та тонкая прослойка меж двух эпох, которой больше никогда не будет
Часть 1: Аналоговый мир
Глава 1. Городок в предвкушении
Городок наш был точь-в-точь как сотни других, разбросанных по необъятной карте страны. Небольшой, уютный, с населением в двести тысяч человек, которые все друг друга если не знали, то могли узнать по лицу. Его сердцем был громадный машиностроительный завод, чьи трубы, как древние менгиры, возвышались над восточной частью города. С утра по улицам текли реки рабочих в синих спецовках, их гулкий гомон и смех заполнял троллейбусы. Завод еще дышал, еще работал, но уже ходили тревожные, приглушенные слухи о предстоящих сокращениях, и это беспокойство витало в воздухе, смешиваясь с запахом свежеиспеченного хлеба из комбината и выхлопными газами от вечно кашляющих «Жигулей».
Центр жизни для нашей, мальчишечьей вселенной, был наш двор. Не парадная, ухоженная территория с клумбами, а настоящий, живой задний двор между пятью девятиэтажными «хрущевками», поросший в центре непролазным подлеском, где мы строили штабы. Там пахло спелой черемухой летом и жжеными листьями осенью, а главной достопримечательностью была покореженная, ржавая ракета из какого-то забытого детского городка, на которой мы сидели, решая мировые проблемы.
В тот день, последний учебный день десятого класса, я стоял у открытого окна своей комнаты. Снизу доносились крики малышни, играющей в «казаки-разбойники», и лязг клюшки о асфальт – старшеклассники гоняли в хоккей на роликах. Я смотрел на это привычное, устоявшееся мироздание и чувствовал легкую щемящую тоску. Школа кончилась. Детство – тоже. Впереди было что-то огромное, взрослое и пугающее. Одиннадцатый класс, институт, армия… Все это висело на горизонте тяжелыми, неясными тучами.
– Макс! Иди к нам! – донесся снизу голос Димы.
Димка был моим лучшим другом с песочницы. Неряшливый, веснушчатый, с торчащими в разные стороны волосами цвета ржавчины и вечно горящими азартом глазами. Он уже бросил на землю свой велосипед «Салют» и что-то оживленно жестикулировал.