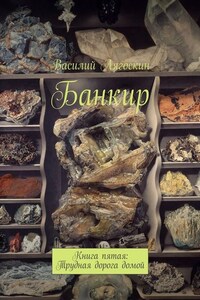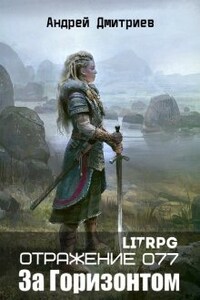До этого летнего рассвета оставалось совсем ничего. Но когда черная машина, сливаясь с чернотой ночи, оттолкнула вбок легкую женскую фигурку и, продолжая неумолимо мчаться вперед, подкинула вверх грузное мужское тело, затем рванула и умчалась – оставшимся лежать у дороги было уже всё равно. Сколько до рассвета? Сколько до заката? Маму санитары прибывшей скорой доставили в больницу. Отца… Собрав остатки разбитой головы (чтобы не шокировать собравшихся к тому времени людей), отца, вернее, то, что осталось от отца увезли в морг. Вот и всё. А ведь как он обычно заканчивал воспоминания о своей жизни, о семье, о трудном военном детстве? «Я выжил. Другие – нет», так он говаривал.
Его поколение – это дети войны. Они хлебнули лиха наравне с солдатами войны. Неужто случившееся – закономерность прошлого? Неизбежность? Я до сих пор пытаюсь разобраться в этом, перелистывая в памяти всю его жизнь. Припоминая то, что он успел рассказать. Вот его воспоминания. Привожу их от его лица.
Отец мой, Иван Николаевич, воевал еще в империалистическую. Потом пришел с войны израненный, а осколок в груди так и остался. Жили они тогда в деревне под Кировом. Сколько смог – работал в поле с моей матерью, потом переехали в Киров. Устроился работать на железной дороге. Сначала сцепщиком, затем кондуктором. Когда началась война, он еще работал. Но вскорости осколок совсем его достал. Отец слег и умер. Остались мы без кормильца. Мать не работала. Всего в нашей семье родилось 11 детей, но я помню, что нас было четверо, остальные к моему появлению поумирали, да и судьба тех, кто выжил, оказались незавидная.
Младше меня был брат Юра. Но похоронили его, когда было ему 2 года. Из-за самовара (про самовар этот я потом скажу). Дело вот как было.
Собрались мы за столом чай пить, а больше то ничего и не было. Мать (царство ей небесное) взялась тряпкой за ручки, принесла его, полный кипятка, поставила на стол. Повернулась, да пошла дальше. Только тряпка-то зацепилась за ручку, самовар и опрокинулся, да прямо на Юру кипяток. Отнесли брата в больницу, долго лежал, уже поправляться стал. Собирались домой забрать, да новая напасть – заразился в больнице дифтерией, здесь уж не усмотрели, умер он.
А самовар этот в тяжелое военное время мать потом продала. Но ничего хорошего он не принес и при продаже. Вот почему. Помню, понесла она его на базар, когда в доме совсем уже ничего не оставалось. Не то что из еды, но и из вещей. Голые лавки, кровать с тюфяком, да печка. Ни простыней, ни подушек не знали. Ну, от того, что вещей нет – не страдали, а вот есть постоянно хотелось. Поэтому ждали мы ее с нетерпением. Продать – продала. Чтобы порадовать детей, купила бидон молока, хлеба. Да, видно, хотели есть не только мы. Выследили ее двое пацанов еще на базаре. Подкараулили возле безлюдного пустыря. Один подбежал – толкнул. Упала, молоко разлилось. Стала возиться с бидоном, хоть каплю молока сохранить, подбежал второй, выхватил узелок с деньгами, да и хлеб заодно. Вот таким дорогим оказалось то молоко, что осталось нам на донышке бидона, после возвращения матери.
Так же неудачно была продана потом гармонь. Это уже в середине войны было. Я к тому времени гармонь эту, что осталась от отца, осваивать начал. Сначала просто пиликал, а потом выучился. На вечеринки приглашать стали, поиграть на танцах. Хорошая была гармонь, не только мне она нравилась. Заприметил ее один мужик, стал ходить к нам домой, уговаривать продать ее. Мать все не соглашалась, а когда тот пообещал привезти мешок муки – решилась. Поверила, отдала, знакомый же все-таки. А он, гармонь забрав, дорогу к нам забыл с тех пор. Пришлось побегать за ним, чтобы привез обещанное. А когда привез – как радовались попервоначалу. Пока не собрались печь хлеб. Испекли, а его есть нельзя было, хрустел на зубах настоящий песок. Может с земли сметали муку эту, может, специально разбавили песком для веса.