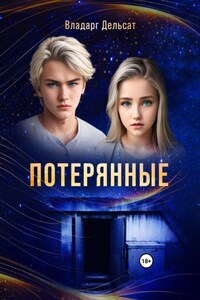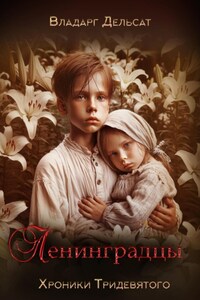Виктор Кох
– С днем рождения, Витя, – тихо сказал я себе, проснувшись. Сегодня мне исполнилось девятнадцать.
Привычно стало грустно, захлестнула тоска по папе. Единственный близкий в моей жизни человек, понимавший и принимавший меня, умер много лет назад, когда мы только переехали в Германию. Поздние переселенцы, значит. Таких, как я, в тридцатые называли фольксдойче, то есть принадлежащие к немецкому народу. А сейчас – переселенцы. Вроде бы немцы, и даже гражданство дали, но… Довольно много этих «но» в Германии.
Поднявшись с кровати в своей комнате опостылевшего общежития, я привычно занялся зарядкой, как учил когда-то папа. У него был рак, папа знал об этом, но никому ничего не сказал, а потом стало просто поздно. Впрочем, мама быстро утешилась с этим Юргеном.
Захотелось сплюнуть.
Делая маховые движения, я вспоминал, каким был дураком, пытаясь понравиться «новому папе». Я ему был не нужен, что до меня довольно быстро дошло, поэтому от меня и избавились. Мать моя ни слова не сказала против отправки меня на учёбу, даже денег не пожалели, твари.
Ненавижу её за предательство памяти папы!
Так и вышло, что я остался один. Мне, двенадцатилетнему тогда пацану, было трудно – без тепла, без поддержки, без… Да без всего. Но я руки не опустил – это было бы предательством по отношению к папе. Его последние слова я помню до сих пор и буду помнить всю жизнь: «Стань человеком, сынок».
Я стану, папа! Клянусь тебе!
Сегодня мне девятнадцать. Наверное, поздравят учителя, психологи эти доморощенные, но никогда больше не будет папиных рук, его голоса, его мудрости. Что мне эти лицемерные равнодушные поздравления?
Да и нечего мне праздновать. Нечего, не с кем, незачем. Ну стал я на год старше, кого это порадует? К тому же завтра у меня очередной экзамен матуритата – математика. Самый страшный, по слухам, экзамен. Наши все дёргаются уже неделю, что-то повторяют, что-то судорожно учат, даже неприступная Светка. Есть у нас девчонка одна – окружающие считают её фифой, но посмотришь на неё – и возникает ощущение какой-то задавленной боли. Я уже и так пробовал пообщаться, и эдак – без толку всё, выставит колючки, как ёжик, и всё.
Впрочем, пора умываться и выползать наружу, как улитке из раковины. Натянуть на лицо привычную маску вежливой доброжелательности, хотя хочется устроить истерику. Но кому тут устроишь истерику? Книгам? Стенам? Кому может открыть душу никому не нужный пацан? Вот то-то и оно, что никому.
Закончатся экзамены, будет месяц поездок с классом – тут так принято, а потом – универ. Появятся новые безразличные лица. Пусть так. Лишь бы не «домой». Не видеть эту лоснящуюся от жира рожу отчима и то, как перед ним стелется мать. Как же можно себя так не уважать?
Ладно, что-то меня сегодня несёт по кочкам, расслабился я, что ли? Нельзя. Просто нельзя, и всё. Застыть, закрыть глаза, повторять как заклинание, как мантру: я мужчина, я сильный, я смогу.
Думая именно так, я шагнул за дверь своей комнаты, привычно запирая её на ключ. Здесь не воруют, просто так принято. За прошедшие семь лет я так и не сумел ощутить это место домом, как ни старался. Видимо, не положено мне дома… Тяжело вздохнув, продолжил путь, улыбнувшись по дороге веселушке Хельге, опять кому-то перемывавшей косточки вместе со своей верной подружкой Хелен.
Привычные серые коридоры с белым потолком, привычные светильники дневного света, дверь в столовую нашего курса и отдельные столики, разбросанные по залу. Привычно взглянув на окошко раздачи, я задумался о том, что у нас сегодня на завтрак. Но ответ был на витрине – всё как всегда: каши, мюсли, хлеб, колбаски… Фруктовые соки, молоко, кофе, чай… Тьфу. Борщ я вижу только во сне, а иногда так хочется – наваристого, как бабушка варила.