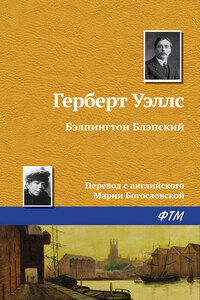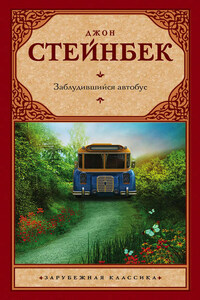Эта повесть написана моим отцом, Григорием Дроздовым (1897—1972). Родился он в Саратове, был ученым-аграрником, заведовал отделом экономики Сибирского НИИ зернового хозяйства и кафедрой технического нормирования Омского СХИ. Ни в каких партиях не состоял, политикой не интересовался. Но настало время сталинских репрессий, и в 1933-м его арестовали. По статье 58.1а «Контрреволюционная деятельность». Якобы за участие в мятеже солдат Ярославля, где он отбывал воинскую повинность… 15 лет назад. Повезло еще, что не расстреляли, статья предусматривала и такое. Дали 10 лет с конфискацией имущества и отправили в Ангренский ИТЛ (Ташкентская область, Узбекская ССР). Там он провел первые пять, днем «перевоспитываясь», а по вечерам, мысленно возвращаясь в прошлую жизнь, писал эту повесть.
После его перевели в Карагандинский ИТЛ (Казахская ССР), где он отсидел оставшиеся пять. Встретил там мою мать, отбывшую в Карлаговском АЛЖИРЕ (Акмолинский лагерь жен изменников родины) пятилетний срок. Будучи уже не зеками, а поселенцами, через год они произвели на свет меня, и мы втроем оставались ссыльными в степях Казахстана еще 11 лет. А в 1953-м, когда апостолы «великого вождя» строителей социализма помогли ему отправиться на тот свет, без вины виноватых «контрреволюционеров», «врагов народа» и «изменников родины» начали выпускать на волю и возвращать по домам. В 1955-м получили «индульгенцию» и мои родители, выбравшие местом дальнейшего пребывания родину матери, Тбилиси. И 22 года спустя отец вернулся к делу, с которого и начинал – к науке. Оставшуюся часть жизни он провел в Грузинском НИИ экономики с/х, защитив две диссертации и став доктором наук. Написал и издал три книги по проблемам сельского хозяйства, а эта пожелтевшая тетрадка (рукопись, написанная разного цвета чернилами) оставалась нетронутой, таясь в семейном архиве. Вот, наконец я и решил предать ее гласности.
Романтическую историю, случившуюся со мной много лет назад, я назвал «Повестью о похищении невесты». Но не та стройная с чудесными глубоко-синими глазами нежная девушка, которую однажды ночью мы должны были выкрасть из родительского дома, была героиней этой повести. Другое лицо встает перед моими глазами, и тогда по сердцу опять пробегают свежие волжские ветерки, несущие пряный запах сена, волнующую бодрость ночной прохлады и еле уловимый аромат каких-то духов. Серебряными бликами плещется лунная дорога, на луговом берегу призывно кричат коростели, ритмически – вперед и вперед, куда-то вперед – несутся колеса парохода. На горном берегу наклонились к уснувшей реке застывшие в ночном зеркале темные кружевные леса, тенями уходя в глубину. И в душе возникает, тихо расплывается легкая грусть, тоска об ушедшей юности, о том, что могло быть, было и не было…
Люди подобны звездам. То яркие и большие, то далекие, почти незаметные мерцающие точки, несутся они в бесконечных просторах вселенной и, сблизившись на миг, расходятся, чтобы встретиться снова или не встретиться никогда. Может быть, эту повесть прочтет, задумается и взгрустнет о прошедшем та, которая участвовала в ней. И вспомнит, как и я, и короткие волжские ночи, и золотые июньские звезды, и лунную дорогу, и узорные тени, и блики, и легкие, несущие прохладу ветерки…
Я был студентом-второкурсником, когда меня призвали в армию и направили в школу прапорщиков. Летом 1917 года я был произведен в чин, надел бриджи и френч, нацепил на себя фуражку, ремни, шашку и револьвер.
Мне было двадцать лет, я был здоров и силен, много читал, любил людей и природу, часто и беспечно смеялся. Но нередко меня охватывали грусть и какая-то душевная пустота. Тогда на западе еще гремели раскаты орудий и лилась кровь. В городах доламывались остатки царской власти и размеренного чиновничьего уклада, трещали бытовые традиции, шла борьба старого с новым. Мужички набивали сундуки керенками, меняли на барахло муку и картошку, жадно вздыхали о черной земле, с которой спешно сбегали растерявшиеся, насмерть перепуганные, но еще не потерявшие надежды помещики. Генералы произносили речи «о долге перед союзниками и родиной», присяжные поверенные собирали митинги и вели дискуссии о «войне до победного конца», «мире с аннексиями и без аннексий и контрибуций». Купцы и заводчики прибирали к рукам концы власти, а Керенский во френче и без френча рыдал на всех площадях о «единой и неделимой России». Попы раскопали апокалипсис, пугая народ звериным числом и властью «аще не от бога». Большевики призывали свергнуть Временное правительство. Мещане болтали о твердой руке, плотнее закрывали ставни, возмущались ценами и грабежами, запрятывали кубышки с золотом и царскими кредитками. Никто не хотел больше воевать, и никто не знал, что принесет завтрашний день.