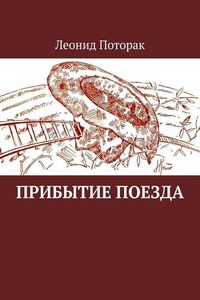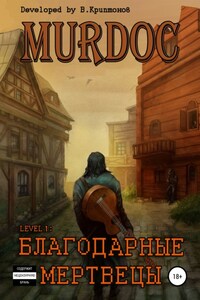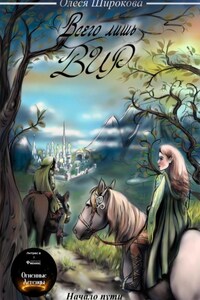Вот она, местность сия. Белая степь, свалявшаяся под дождями, как травяной матрац. Придёт время – её взобьют кони размывающимися в мареве ногами. Через степь бывает видно дымы с турецкой стороны. Белые известковые глыбы и жёлтые земляные насыпи, ещё не тронутые пулями, поросшие сурепицей, изрытые сусликами. Пуля выбьет из известняка облако мела, а в глину уйдёт чисто, оставив круглую норку, где после обоснуется чёрная с малиновым блеском надкрыльев степная жужелица.
(До турецкой стороны по карте сантиметра два. Один раз шагнуть пальцами, чтобы пройти весь маршрут обоза.)
Для немногих, кто выбирал дорогу через белую степь к Дунаю, на середине пути устроили колодец, который потом загубили. Часто говорили, что в колодце нашли человека, но как он туда попал, рассказать было некому.
Отец Василий – вот он сковыривает с иконостаса позолоту, руки его в чешуйках золотой кожи – придёт в эти края с юга и уедет дальше на север, лёжа поперёк седла.
С ножом отец Василий справлялся неумело; вместе с лёгкими хлопьями сусала в мешок падала стружка, добавляя те лишние доли, что однажды перевесили палку в руках Кэтэлина Пую, пыльного краснолицего гайдука – на его белых от пыли щеках пот рисовал багровые борозды. В овечьем жилете застряли высохшие ости ковыля.
В таком образе стоял Кэтэлин Пую у стойки в станционной корчме: без гайдуцкого кафтана, без сабли, в крестьянской рубахе и вытертом до пергамента пиджачке, в этом своём жилете поверх всего – точь в точь из прошлой половины века – бродяга, чудной, но нестрашный человек. Ему налили кислого домашнего вина, и Кэтэлин разом втянул его в усы. Время здесь шло не так, как в степи. Отца Василия не было, как и жужелиц в ещё не выбитых в земле норах. В ожидании поезда спали, курили, уставясь в часы, мяли от скуки сгибы газетных страниц. Дыхание, хруст бумаги. Слышно было ещё, как лошади во дворе переходят с места на место и влажно чихают.
В каплях вина и масла на столе отражались окна.
Потом он смёл рукавом осколки стакана, из которого пил, и оглядел станцию. Один лежит в дверях, вцепившись согнутыми пальцами в косяк, дальше – забившаяся в угол женщина, недавний курильщик, весь лёгший на засыпанный пеплом стол и прижавшийся к нему щекой, как на эшафоте, за ним у стены ещё двое мёртвых, свалившихся в обнимку с ружьями. Под окном шевелился, выдыхая непрерывный тонкий писк, подстреленный студент. Старик-обходчик застыл, сложив на коленях руки, и прямо у его сапог лежал четвёртый труп. Развороченная мягкой пулей спина в драном пехотном мундире. Из-под стойки выглядывал буфетчик с порезанным осколками лицом.
Кэтэлин притопнул; с носка сапога скатился раздавленный капсюль.
– Шли бы просто грабить, не начали бы со стрельбы. Это, – ствол револьвера устремлён в лоб того, что лежит в дверях, – Гицэ Бессарабец.
– Меня убили, – выдавил студент. Кэтэлин дёрнул щекой.
– Гицэ Бессарабец убивает, после берёт что хочет. Деньги берёт. Одежду всю берёт. Ему с мёртвого легче снять, – Кэтэлин сдвинул курок на полувзвод и прокрутил барабан, стряхивая остальные капсюли: тик-тик-тик. – Все понимают, что если бы не я…
– А-а…
– Закрой рот, мальчик, ты не умрёшь. У тебя только дырка в плече. Что я говорил? Вот урод… Когда я пришёл сюда, я только хотел выпить после дороги и дать отдохнуть коню.
Мужчина стёк со стола на скамью и дышал там, вытирая пепел со щеки. Кэтэлин снял со стойки уцелевшую бутылку. Положил её на бок, как короля в проигранной партии. Оторвал от стены длинную медную чеканку – ещё, кажется, тридцатых годов, бояре с трубками длиной в руку, цыганёнок с огнивом и собачки на подушках – и опустил серёдкой на мутный бок бутылки, навроде качелей.