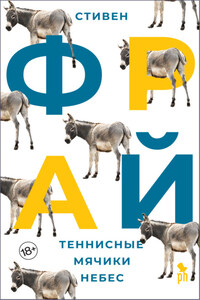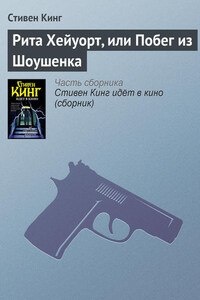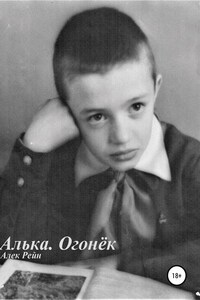Раньше я все время удивлялась: есть же на свете такие люди, как Генри. Поразительно, что человек может оказаться в столь чуждой ему среде и оставаться совершенно не подверженным ее влиянию. Генри будто покрыт каким-то мощным защитным средством, вроде антикоррозийного состава для океанских яхт.
Генри намазывал джем «Гордость джентльмена» фирмы «Фортнум и Мейсон» на кусок пресного хлеба, какой пекут в Намбуле.
– Сегодня утром встал и глазам своим не поверил: у моей хижины – семейство из восьми человек. Хотели передвинуть палатку поближе к реке. Говорю этому парню: «Приятель, здесь у нас лагерь беженцев, а не палаточный городок. Ладно, ладно, двигай. Кормят тут неважно, зато какой вид».
Генри похож на Иисуса. Ему двадцать три.
В Сафиле завтракали рано, сразу после рассвета. Время затишья – всего час перед тем, как жара становилась невыносимой. Тишину нарушали лишь крики петуха и болтовня Генри, который закрывал рот только во сне. Тем утром он надоедал мне больше обычного. Я подозревала, что у него закрутилась интрижка с одной из наших эмоционально особенно уязвимых медсестер – Сиан. Она сидела рядом с ним и смотрела на него взглядом благостным, как бисквитное пирожное. У Сиан было доброе сердце. Она присоединилась к нам два месяца назад, после того как рано вернулась домой с ночной смены в Дерби и обнаружила своего мужа в постели с таксистом кипрского происхождения. Они были женаты восемнадцать месяцев. После нескольких встреч с психоаналитиком она решила продолжить свое лечение заочно.
Бетти, как обычно, говорила о еде:
– Знаете, что бы я сейчас съела? Пудинг с джемом и заварным кремом. Точно говорю. Даже, наверное, оставила бы пудинг и просто съела заварной крем. Обычный пудинг из хлебных крошек. Ммм, представляете, как вкусно? С изюмом и мускатным орехом! Может, Камаль приготовит хлебный пудинг, если мы приспособим эту жестянку из-под печенья под духовку?
Полшестого утра. Я встала из-за стола, вышла на улицу и вздохнула. Здесь всегда раздражаешься по мелочам и при этом не замечаешь ужасов, потому что уже насмотрелась. Я зачерпнула из чана воду и пошла к обрыву – почистить зубы.
Позади меня располагалось наше поселение – несколько круглых глиняных хижин, душевые, уборные и домик, который служил нам столовой. Передо мной – лагерь Сафила, шрам посреди пустыни, отпечаток гигантской ноги на гигантском пляже. Солнечный свет – пока еще бледный, мягкий; небо едва прояснилось на горизонте. Среди дюн и дорожек, ведущих к месту, где одна синяя река впадает в другую, беспорядочно рассыпаны хижины беженцев. Пять лет назад, в середине восьмидесятых, во время Большого Голода, их было шестьдесят тысяч. В день умирало по сто человек. Сейчас осталось двадцать тысяч. Остальные перешли границу и вернулись в горы, в Кефти, где шла война.
Сухая трава зашелестела под дуновением горячего ветра. Сегодня утром не только Генри действовал мне на нервы. В лагере ходили слухи об очередном губительном для урожая нашествии саранчи в Кефти. Но поселенцы часто рассказывали страшные истории. Трудно определить, каким из них можно верить. Мы слышали, что ожидается новый приток беженцев – может, тысячи.
Лагерь наполнился шумом – блеяние коз, смех, крики играющих детей. Радостные звуки. Еще недавно мы слышали лишь стоны умирающих от голода. Я прикусила кончик большого пальца, пытаясь забыть. Невыносимо вспоминать то время. Со стороны столовой донеслись шаги. Генри возвращался в свою хижину. На нем была его любимая футболка с надписью «Почему вы решили стать волонтером?» и четырьмя вариантами ответа: