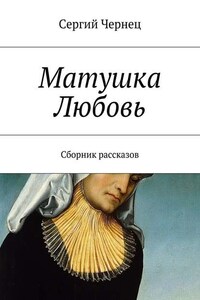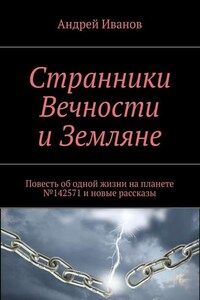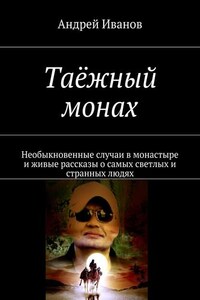Один человек сказал мне, что он
хотел бы превратиться… в крысу.
Разговор шёл о войне, быть может,
последней для человечества.
Так вот, тот человек хотел выжить
в этой войне, ведь говорят, будто
выживут одни крысы.
Я бы предпочел обратиться в камень.
Скрип открываемых ворот заглушил хриплое дыхание запаленной лошади.
Высокий, добродушного вида бородач, в кольчуге и с непокрытой головой ожидающе смотрит в багрово-грязное лицо всадника.
– Ты что ль, Ермил? – негромко спрашивает он.
– Пусти к князю, Данило, – прохрипел Ермил и покачнулся на круглой спине неоседланной лошади.
– Чего там?
– Оставьте!
Данила протянул руку и подхватил легкое тело Ермила, так и не удержавшегося на коне.
Он повел его к широкому, поросшему муравой двору к дому. Сбегалась дворня, из-под высокого резного крыльца рыкнул огромный рыжий пес.
– Цыц! – топнул ногой Данила и опустил Ермила на траву.
Неловко повернувшись, тот утвердился на коленях, упершись в них руками. Глаза его, сойдясь у переносья, смотрели в землю перед собой.
Белявый отрок вскочил на крыльцо, бухнула дубовая дверь, и вот уже сам князь, взявшись за резной столб рукой, вперил настороженный, ждущий беды взгляд в обросший светлым волосом затылок гонца.
– Князь, князь-батюшко! – толкнули Ермила в бок.
С хрустом распрямилась спина гонца, красные, гноящиеся от пыли и бессонницы глаза встретились с сине-грозовыми очами князя.
– Враг у реки! – выдохнул Ермил.
– Врёшь, вестник! – вскричал князь.
– Враг… – голова гонца упала на грудь, и Ермила боком повалился в траву, ударившись плечом о древко Данилиного копья.
– О, Господи, помоги рабу твоему! Прости, Господи, за гордыню и грехи тяжкие. Главный грех прости, Боже – Лидию.
Князь, огромный, светловолосый, стоял перед иконой Спасителя, слегка склонив голову и четко выговаривая слова, обращенные к единственному, с кем мог говорить откровенно. Широко перекрестясь, он повернулся и шагнул из домашней молельни, плотно прикрыв за собой дверь.
Половину высокой светлой горницы занимал отливающий стружечной желтизной стол на толстых тумбах вместо ножек.
На лавке за столом, смиренно сложив руки перед собой, сидел маленький смуглый человек. Его темно-коричневая с рыжим отливом ряса, подвязанная по поясу лыком, ниспадала складками на скамью и пол.
– Что, князь! – глухо молвил человек, не поднимая глаз. – Тяжко! К Господу обращаешь взор свой и мольбы…
– Мой взор всегда обращен к Господу нашему, – прогремел под сводами голос князя.
– Да, да, да, да… – мелко закивал головой черноризник. – Только чем тебе поможет Господь, коли…
– Все в руках божьих.
– …коли, сам ты от помощи отказался и никому не помогаешь.
– Молчи, чернец, – устало молвил князь.
Тяжелая дверь грохнула, и зазвенела тишина в горнице.
Конь мягко ступал по разбухшей земле, листья нежно шептались над головой, терпкий запах ивовой коры пронизывал воздух, касаясь ноздрей, и будил кровь в жилах.
Тяжка доля княжеская, у всех князь на виду. То, что дружиннику простится или даже замечено не будет, для князя грех великий.
Но смертны князья и слабы, как всякие человеки.
Не давал князь воинов братьям на подмогу – спросил ли кто-нибудь его, – почему? Нет, все винили в гордыне непомерной и корысти черной. Была гордыня? – Была и есть. Но не корысть.
И как тут не быть гордыне, коль не на совет братский князья-братья звали, а велели спешно всю дружину им в помочь гнать, да со своим съестным припасом. Князь себя равным среди равных почитал и обращения достойного ждал. Подумав, рассудил: подмоги братьям не слать, воев своих сберечь – может, в этом корысть?! – а посему в случае беды ничьей помощи не ждать и не принимать.