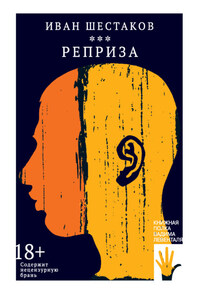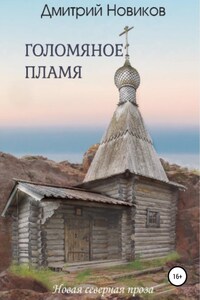Таня расплакалась, едва затихли наши стоны.
Я лежу рядом. Во мне нет ни сочувствия, ни раздражения. К липкой простыне меня придавило равнодушие.
До этого я всегда пытался подобрать нужные слова и каждый раз ошибался. Вначале я отучил себя разбрасываться обещаниями, что все будет хорошо. Немного позже в расход пошли уверения справиться со всем вместе. Лишь один-единственный раз я предложил смириться и жить, как получается, о чем тут же пожалел. Все мои слова вызывали ярость и раздражение, но попыток я не оставлял. Однако теперь решил промолчать.
Сквозь шторы пробивается луч света от фар. Он пересекает потолок и ускользает за дверь в соседнюю комнату. Я встаю и следую за ним.
За порогом громадная мастерская, освещенная желтым светом уличного фонаря. Мольберт накрыт брезентом из теней. Напротив табуретка с палитрой. Повсюду картины – на стенах, в углах и на тумбочке. В этой комнате даже присесть негде, даже кресла заняли холсты. Это их комната. Здесь мне не место.
Ногой цепляюсь за рамы, сваленные под стол. Несколько из них съезжают на пол. Я нагибаюсь, чтобы положить их на место, и замечаю среди них недавно пропавшую картину. На ней мы с Таней сидим на красном диване напротив зеркала. На переднем плане изображены наши затылки. За ними – отражение, на котором мы, прильнув друг к другу, скромно улыбаемся. С краю от меня лежит книга, а в ногах у Тани изгибается альбомный лист. С подлокотника на нас смотрит рыжий кот Пим.
Закончив эту картину, Таня произнесла удивительные слова: «Друг в друге мы видим себя и наш маленький мир». Это было пять лет назад, когда мы начали встречаться. А сейчас она похоронила эту работу под грудой рам.
На кухне меня встречает Пим. Он караулит холодильник.
Кота мы назвали в честь Пименова, к живописи которого тот явно был неравнодушен – будучи котенком, он изодрал иллюстрации этого советского художника. Для нас так и осталось загадкой, был ли это протест против соцреализма или таково проявление симпатии у кошачьих. Впрочем, и у людей порой не понятно, где кончается любовь и начинается ненависть.
– Ничего, приятель. Скоро она успокоится, и у нас все наладится, – говорю я рыжей морде.
Как же я рад, что коты не обижаются на слова.
Набрав кружку воды, я возвращаюсь в спальню.
Таня по-прежнему плачет. Предложить ей попить будет неимоверной глупостью. Разве вода может помочь? Так и продолжаю стоять с кружкой в руках.
Таня вцепилась в мою подушку и теперь размазывает по ней слезы, сопли и слюну. Надо прилечь рядом, обнять и не отпускать. Но вместо этого я сажусь на край кровати, разом осушаю кружку и натягиваю трусы.
Иду в ванную.
Холодная вода из-под крана обжигает лицо. Затем еще и еще.
В полотенце остаются последние остатки вязкой темноты из спальни. Но там ее еще полно. Я не могу туда вернуться.
Иду на кухню, ведь это самая дальняя из комнат. Но слизкие тени уже и здесь. Тусклая лампочка им нипочем. Боятся они только огненного Пима, но он защитить меня не может. Надо бежать.
Джинсы мои остались у кровати, поэтому обхожусь трико. Его нахожу в гостиной на диване. Только вот среди разбросанных вещей я не могу отыскать футболку. Но она мне попадается в корзине для грязного белья. Там же находятся носки.
Я накидываю пальто и выхожу в подъезд.
Пока верчу ключом, пытаюсь почувствовать стыд воина, бежавшего с поля боя. Но его нет. Как нет и разочарования от его отсутствия.
Уже давно я ничего не стыжусь. И, кажется, утратив эту слабость, я лишился чего-то человеческого.
На лестничной площадке этажом ниже я встречаю Аркадия Петровича. Пожилой профессор поднимает на меня грустный взгляд и поправляет очки. Вечерами он часто читает в подъезде, выкуривая несколько сигарет. Мы так часто с ним общались, что теперь наш разговор может ограничиться лишь одним взглядом – нам сразу все становится понятно. Вот и сейчас я понял, что у него вновь колет в боку, журнал отказал в публикации, а жена обвиняет чуть ли не в распятии Христа. Должно быть, и он все понял, раз так отрывисто кашлянул.