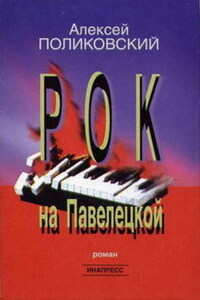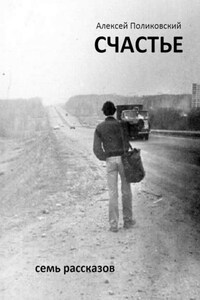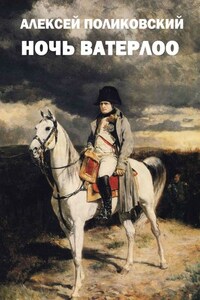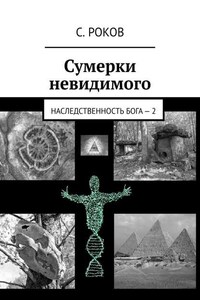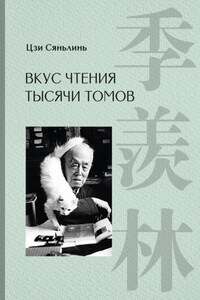Сейчас я уже не помню, что делал в тот осенний день на Дубининской улице. Я повернул налево с Кольца – тогда там ещё был левый поворот – и, проехав мимо Павелецкого вокзала, уже готов был устремиться дальше на юг, по дурной разбитой мостовой, для пущего страдания автомобилистов снабженной трамвайными путями. Обычно я там не езжу, берегу машину, но тут меня понесло. Вдруг боковым зрением я увидел на другой стороне улицы стоящего за лотком бородатого мужчину в синей курточке и с красной лентой вокруг головы. Я ещё не успел сообразить, кто это, – мысль об этом пришла секундой позже, – но уже почувствовал внезапную тревогу. Я по инерции проехал несколько десятков метров и остановился, не доезжая светофора. Постоял десять секунд, раздумывая и сомневаясь, а потом включил аварийную сигнализацию и подал назад. Да, теперь я проехал несколько десятков метров назад, осторожно, медленно, навстречу несущимся к светофору машинам – и притормозил точно напротив уличного торговца.
День был унылый и серый, а фигура его на фоне этого серого, пропитанного влагой дня была яркая, как цветная клякса. Длинные темные волосы, громоздкое, с крупным подбородком, как из дерева вырезанное лицо, рыжеватая борода, красная лента вокруг головы, давно вышедшие из моды кроссовки с загнутыми мысками – он выглядел нелепо, как мастодонт, случайно забредший в наш супердинамичный век. Сидя за рулем и повернув голову, я некоторое время смотрел в боковое стекло на грузную фигуру, стынущую за лотком на холодном ветру. Это был сентябрь. Вторая половина сентября, уже шли дожди. Асфальт был в лужах. Очень неуютная погода. Я рассматривал его, сбитый с толку, неуверенный, смущенный, пытаясь совместить в себе какие-то вещи, которые казались несовместимыми – а потом, уже поняв, кто это, опять сидел и думал, нужно ли выходить и идти к нему. Помимо сомнений, стоит ли вообще подходить к человеку, которого не видел двадцать лет, тут было ещё и обычное нежелание вылезать на холод из теплой кабины с радио, которое хрипловато мурлыкало голоском Патриции Каас. Она пела «Медуамазель блюз».
Теплая кабина, бесшумно работающий под красным капотом двигатель в сто шестьдесят хорошо отлаженных сил, – инжектор, шестнадцать клапанов, многоточечный впрыск, гордость водителя! – приятный голос француженки, в котором в правильных пропорциях были смешаны романтика и эротика, руки на руле, правая нога на ребристой резине педали газа – все это был мой привычный мир, мир, который сросся со мной так, что уже не отдерешь. Автомобиль был продолжением меня. Или я был продолжением автомобиля? Я был тот, кто я был – не последнее лицо в страховой компании «Линекс», мужчина сорока пяти лет с красивой сединой в волосах, отец семейства, владелец счета в Московском Международном Банке (ММБ), раз в год отдыхающий две недели в Европе. Улица, уходящая вдаль, была как приглашение двигаться дальше и, двигаясь, оставаться здесь, в этом привычном мире, в своей нынешней жизни. Человек, маячивший за стеклом на другой стороне улицы – он был из другой жизни. Из прошлого.
Двадцать лет назад, в те годы, которые отстояли от приближающегося Миллениума далеко, как эпоха ацтеков, человека, который сейчас стоял за лотком, звали очень просто – Бас. По понятной причине: он играл на басу в великой группе Final Melody. Я не слышал о Final Melody много лет, мои нынешние приятели и сослуживцы не знали о такой группе, да и вообще кто теперь знал об этой группе? – но я никогда не забывал о них. Это было невозможно – это значило бы забыть о самом себе, каким был когда-то, а ведь я был когда-то. Они сгинули, растворились. Музыка группы не издавалась, что вообще-то говоря было странно: в наши дни после цифрового ремастеринга издается абсолютно все, любой шум и гам, даже тот, что остался от прошлого на осыпающейся пленке «Свема», предназначенной для старых катушечных магнитофонах. Но их – не издавали. О них не писали. На FM-диапазоне их не крутили. Они исчезли.