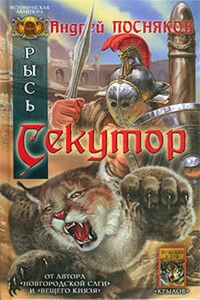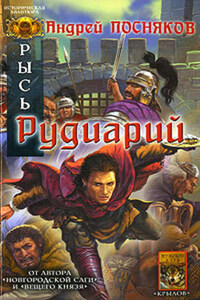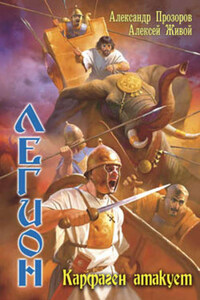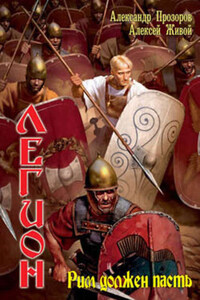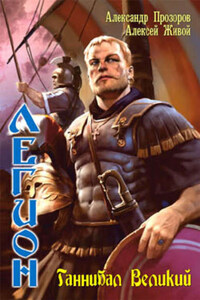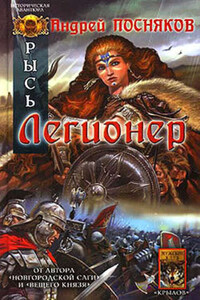Идея этой вещи вышла из пустяка. По причине той занятной закономерности, что интерес к фундаментальным предметам чаще всего возбуждается малозначительными, а в другой раз и прямо посторонними обстоятельствами, идея этой вещи вышла из совершенного пустяка, то есть из газетной заметки, которую можно было даже и не читать. В заметке сообщалось о том, что разнорабочий Бестужев, весовщик Завалишин и водолаз Муравьев привлечены к уголовной ответственности за незаконное врачевание. Как выяснилось впоследствии, к декабристам эта троица никакого отношения не имела, и предки их оказались всего-навсего однофамильцами наших великих мучеников, но уже было поздно: заметка бесповоротно навела на цепные человеко-исторические размышления, а именно сначала на ту догадку, что, вероятно, угодить в историю можно так же нечаянно, безотчетно, как в глупую переделку, затем на ту мысль, что раз не все беззаконники проходят перед судом, то, может быть, и в историю не попадает значительная часть тех, кто ее непосредственно совершает, недаром Александр Николаевич Радищев подозревал, что-де бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровью от оплеух, может многое решить, доселе гадательное в истории российской; наконец, было не ясно, что обрекает одного Бестужева на историческое деяние, а другого на мелкое колдовство.
Короче говоря, эта заметка возбуждала нешуточные вопросы, касающиеся влияния человеческих судеб на ход исторического развития, которые самовольно складывались в один монументальный вопрос: что есть история и как она делается. Из-за того, что, так сказать, в макросмысле ответ на этот вопрос получен давным-давно, оставалось разобрать его в микросмысле, то есть на уровне побуждения и поступка. Такой подход к делу казался естественным и правомерным уже потому, что обстоятельства общественного развития складываются из устремлений и действий тех, кто эти обстоятельства исподволь созидает, как природные химические реакции складываются из сопряжения множества элементов, и еще потому, что скорее всего у истории нет плана, а есть некая планомерность, другими словами, такая направленность поступательного движения, которая ежедневно, ежечасно, даже, может быть, ежемоментально вытекает из природы людей, а там уже и из природы человеческого сообщества, – следовательно, первопричины исторических превращений нужно было бы искать именно в человеке.
Так как история человека в собирательном толковании понятия «человек», или, выражаясь фигурально, кровотоки, сухожилия и нервы исторического пути, обнажаются исключительно на изломах, прежде всего нужно было избрать какой-то излом русской народной судьбы, на котором можно бы доподлинно рассмотреть микромеханику общественного движения. Отчасти благодаря заметке, в которой упоминались декабристские имена, но главным образом потому, что первое поколение русских революционеров давало пленительный человеческий материал, наиболее предпочтительным был как раз излом 1825 года, несмотря на то что к этому источнику в разное время прикладывались несметные литературные силы, начиная от великих созидателей художественных миров и кончая простодушными чудаками. Впрочем, человеко-исторический ракурс излома 1825 года открывал именно непроторенные пути, так как, не относясь ни к историкам, ни к бытописателям, можно было бы позволить себе руководствоваться не столько интересами факта, сколько интересами ракурса, и, разлагая историческое событие на микропроцессы, отчасти пренебречь внешней стороной дела, на которой только и мыслимо повториться. К счастью, художественная проза допускает такие вольности, ибо художественная проза – это все-таки художественная проза, – как говорится, что хочу, то и ворочу, хотя она чаще всего именно тогда достигает истинности, когда ставит себя над фактом и сносится не только с тем, что было на самом деле, но и с тем, что могло или должно было быть, или вот желательно, чтобы оно именно так и было.