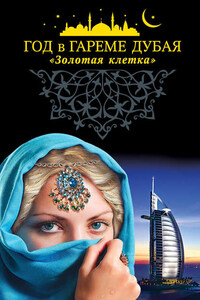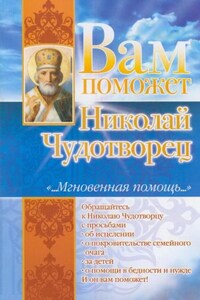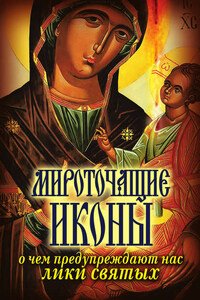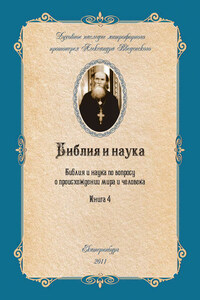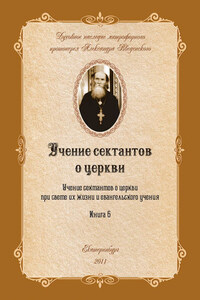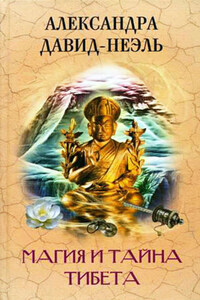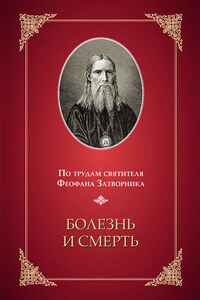Тайный путь русской поэзии
Ранний свет луча дневного
Озарил мой тайный путь.
Н. Языков
Тайна, конечно, и должна оставаться тайной. Хотя, с другой стороны, – «Всё тайное станет явным». Однако афишированная тайна оборачивается или срамом, или трагедией. Думается, евангельская мысль как раз трагична. Тайна была выведена на Голгофу и «обнародована». Но почему разглашение тайны обязательно должно стать ее нарушением, почему не может быть своей тайны у целого народа, у целого человечества, у всей Вселенной? Быть и оставаться тайной? Может – и – есть. Но что такое вообще тайна? Целомудренное чудо. Этим целомудренным чудом и определяется качество человека, народа, произведения искусства. Весьма фривольные Рабле и Вийон – этим чудом обладают (хотя в жизни тот же Вийон по оставшимся свидетельствам был, как теперь говорят, «отморозок»), в «телесах» Рубенса и кошмарах Босха оно есть, даже в песенках ветреных и разбитных битлов оно тоже присутствует. А в иных весьма пуританских и «праведных» трактатах и виршах его отчего-то нет, это при всей искренности писавших…
С другой стороны, некоторые современные авторы полагают, что, чем «гаже» пишешь, тем ярче высвечиваешь «святую» сторону дела. Истоки этой наивности как раз в отсутствии представления о какой бы то ни было тайне. А ведь никакой обратной пропорции здесь быть не может: карнавалу, конечно, природны святые очертания, но литургия от этого не меркнет, а только разгорается ярче в своей первозданности; и все-таки чистая литургия, конечно, стоит здесь во главе угла.
В чем же тогда тайна? Наверное, в покаянии. Я тут «темню» не по игривости и не по мнительности, а потому, что говорить о покаянии в третьем лице некорректно ни в церковном, ни вообще в моральном, аспекте. Более того, человек, обличая себя, тоже ведь ставит себя, в известной степени, в третье лицо: «Ах, я такой-сякой!» – «Ах, он такой-сякой!» (тыча в себя пальцем). Самоуничижение – грех паче гордыни. Покаяние более обширно, таинственно и – просто. «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» (Г. Державин). И требуется особая благодать на человеке, чтобы он мог высказать это в стихах, чтобы он, не разглашая суетно, смог передать драгоценную тайну читателю, вывести и его на Тайный путь поэзии, человеческой души.
Начинался тайный путь русской поэзии в молитвах. Невозможно поэтому определить его отправной пункт. Начало же того явления, которое и зовется собственно русской поэзией в современном понимании, традиционно полагается в 18 веке; зачинатели его Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков. Можно, конечно, с этим не соглашаться и нежно вспоминать Симеона Полоцкого, или, если уж на то пошло, грезить о звёздно далеком (и звёздно же близком) авторе «Слова о полку». Мы этого делать здесь не станем. Мы, – в известной степени, может быть, условно, – начнем все-таки с века 18-го.
Русский классицизм неслучайно называется русским, как русское барокко тоже неслучайно… Вообще, думается, что жадное впитывание, празднично-тревожное глотание сторонних культурных традиций как раз свидетельствует об обострении национального сознания. Это своего рода присвоение чужих богатств, деланье их своими кровными, это настоящая мужья любовь к полоненной, во всяком случае, всегда чуть насильно, слегка из-под палки приведенной в дом невесте. Такой очаровательной невестой стала для русича Европа. И начался бурный роман, началась поэзия и проза, тиранство и подкаблучничество. Русское барокко, русский классицизм пропитан русским духом, пронизан его сквозьеловыми острыми лучами. Тут и нашлись новые, неслыханные дотоле слова нового русского стиха.
Но как этот новоявленный русский поэт заговорил о Боге? С огромной радостью, с той радостью, с какой ребенок вбегает утром в родительскую спальню рассказать о первом снеге. Каким монашеским подвигом, какими веками сладчайшего праведного молчания накоплена эта детская радость! Слово рождалось, как Бог, и «Слово было у Бога». Ломоносов хвалит Господа с мощью шума деревьев, наката морских волн на берег и – замирает. Василий Капнист – замирает, стискивает эту радость аскетично, но она изливается из его строк ровным притушенным золотым светом. Иван Крылов, картежник, бывший за это дело и под судом, смеется над собой покаянно; сквозь смех, комично кругля глаза, говорит о Гневе Божием, но в этом смехе – священный ужас и опять она – радость веры. Державин, забавный и грузный, кряхтя, забирается на грозовое облако, но там, как капитан на капитанском мостике, расправляет плечи и говорит напрямую с Господом, что ему дозволяет ликующее дерзновение огромной веры.