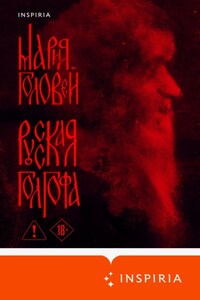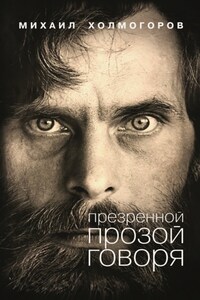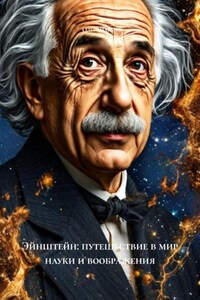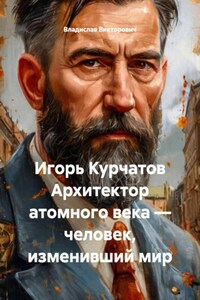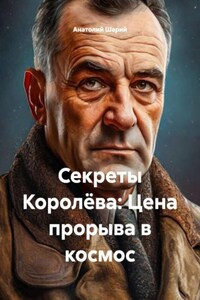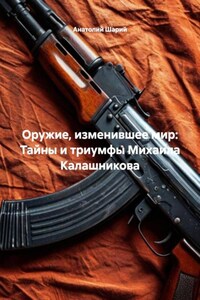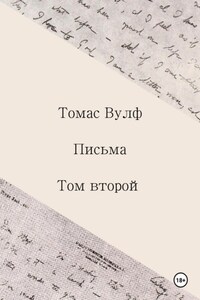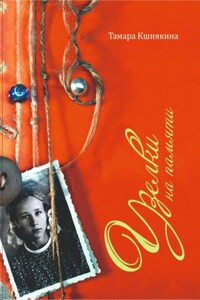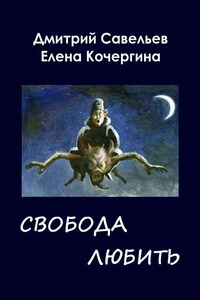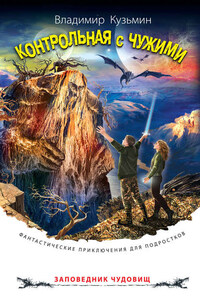– Самуил Ермолаевич, да подумай, на что тебе это? Согласись! Зачем себе жизнь ломать?
– Да на что мне та жизнь? – священник вздохнул. У него был мягкий акающий говор, что-то напевное, подумал деревенский староста. Да и «что» иерей произносил со звонким «ч».
Деревня Мары была обычной, не лучше и не хуже, чем другие деревни и села Московской области. Душ насчитывалось с полторы тысячи. Дома добротные стояли широкими улицами, везде носились чумазые ребятишки наперегонки с рябенькими курицами, в тенистых садиках прогуливались с грудничками молодые мамаши и совсем дряхлые старухи, уже более ни для чего не годные. Жизнь шла своим чередом. Пару лет назад из Рязанской губернии перевели их в разряд района, для каких таких нужд, никто так понять и не смог.
Однако голодные годы позади, все как будто бы налаживается. В деревне активно функционирует колхоз «Передовик», где трудится почти все взрослое население Мар и соседних поселений.
– Отстань, Володенька, мне надо жену похоронить, отмучилась она. А ты тут с указивками ко мне.
Староста кивнул. Понимал, что сейчас не сдвинуть ни в какую сторону Самуила Ермолаевича. Большое горе, хоть и мучилась его София, долго мучилась.
Самуил прикрыл рукой глаза, переносясь мыслями в свое детство – в крошечную деревню где-то на реке Индигирка, в короткое северное лето 1874 года. Как будто ему не полагается помнить свое сиротское безрадостное существование в дому какого-то дальнего родственника с пихрой детей, помиравших чуть ли не каждые полгода, но он помнил.
Бурная мимель[1] проносит мимо него прошлогодние листья, смываемые с крутых берегов, ветки, мелкую рыбешку, резвящуюся на неласковом солнце, да всю его жизнь проносит, не замирает ни на минуточку.
Хочется поймать за хвост это юркое время, да не дается оно, каждый раз выскальзывает из детских ладошек, из взрослых и старческих ладоней, манит неверным мерцанием.
Он не знал, когда и как умерла его мать, где сгинул отец, сколько себя помнил, он жил в доме крикливой тетки и никогда не бывающего дома дядьки. Их дети относились к нему, как и друг к другу, – с обычным детским безразличием, которое сменялось интересом только в моменты игр и бурных драк за самый вкусный кусочек оленины и ледяной рыбной строганины. Особого тепла эти дети не видели ни от кого – ни от собственной матери, ни от малочисленных соседей, разве что священник старался быть ласковым со своей паствой, да и то, похоже, чтобы не разбежались обратно к своим капищам.
Вдруг его трогает за плечо высокий, странно одетый мужчина, не из здешних – с серыми, тусклыми глазами в пол-лица, как будто эти глаза его пожирали, вбирали в себя, грозясь уничтожить:
– Мальчик, здравствуй! Ты понимаешь христианский язык?
Самуил кивнул, задумался – а ведь и верно, христианский, так и батюшка Алелекэ, Алексий, значит, и говорит: «Молвите слова христианские, а не тарабарщину языческую», хотя от имени Алелекэ так и не отрекся, радуется, когда к нему так.
– Значит, понимаешь? Но не говоришь? Немтырь?
Мальчик покачал головой, не решаясь что-либо ответить.
– Как с тобою сложно! Отведи меня к вашему старосте, голове, как у вас здесь это называется?
И мальчик повел нетерпеливого офицера к батюшке Алелекэ, в куцую деревянную церковь с покосившейся папертью – как раз закончилась заутреня, когда Самуил пришел к Индигирке ловить время. Сдобный, весь колышущийся священник теперь уже, наверное, обедал с дряхлым дьячком и певчими в маленьком сарайчике позади церкви, называемом трапезной.
А в глубине той храмушки грозными, почему-то карими очами всех встречал Христос. Не спасения обещали те глаза, а огнь и мещ. Зато пели там чу́дно – матушка Олимпиада, жена батюшки Алелекэ, грудным густым почти басом всегда дотягивала вкусные аллилуйи и угощала то сушеной кислой клюквой, то кусочками просфорок, сбрызнутых сладким красным вином; и чахоточная Анка тоненьким своим дрожащим голосочком вторила иерихонской трубе Олимпиады – приблудыш из какой-то соседней деревни, без роду-племени, блажная.