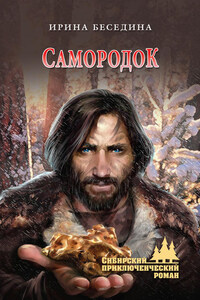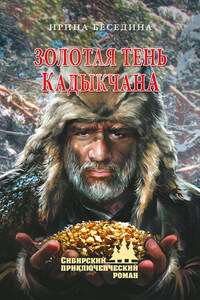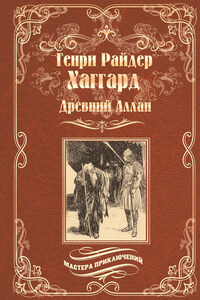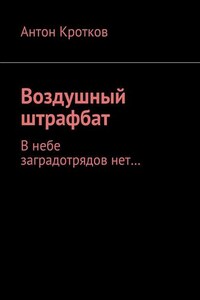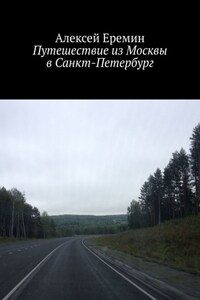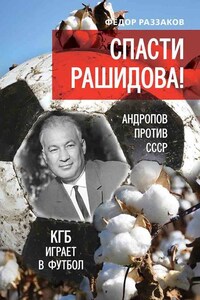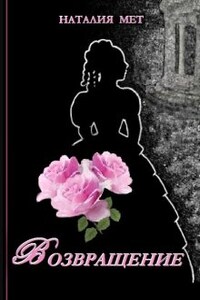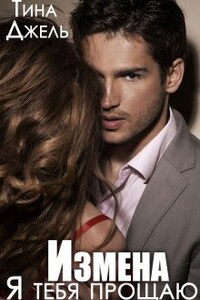Зэки шли строем, молча, тяжёлым шагом, руки за спину, глаза в землю. Впереди, по бокам, сзади колонну сопровождали бойцы охраны с автоматами, с собаками. Зэки шли в забой добывать металл.
Я был в этой колонне. Как «враг народа», я был осуждён на десять лет.
История моего ареста в 1938 году одна из многих тысяч. Меня не интересовали политические игры. Я просто трудился, любил, имел детей, семью. Бессудные расстрелы, громкие и тихие судебные процессы, вообще вся деятельность НКВД[1] и его застенки никак меня не интересовали и не касались. Не то чтобы я не слышал о расстрелах и арестах, но это было где-то далеко, в другом мире. Моя жизнь была проста. Я лечил людей и считал, что это дело мне дано от Бога.
Вдруг ночью неожиданные гости, обыск, арест, следственная тюрьма, нелепые обвинения. И я, простой человек, далёкий от политических интриг, оказался под следствием по непонятным политическим мотивам. Предъявленные обвинения были абсурдны сами по себе. Откуда я мог знать, что мой арест может стать частью крупной политической игры? Готовился фантастический судебный процесс – обвинение бывшего всемогущего начальника сталинской тайной полиции Генриха Ягоды. На меня поступил донос: я неправильно лечу людей. Я залечиваю их до смерти. Это подлое зерно упало на благодатную почву.
В первый момент я не верил, что арестовали всерьёз.
– Это явная ошибка. Разберутся и выпустят. Ещё извиняться будут, – сказал я жене на прощание. Однако сложилось всё иначе.
* * *
Я жил счастливо. Двое детей, красавица жена, преданная, спокойная, любящая, мой надёжный друг. Она умела создать уют и спокойствие в доме. Я был убеждён, «семья – это святое». Я любил свою работу и отдавал ей все силы.
Из этой счастливой жизни я был вырван совершенно внезапно. Политика меня вообще не интересовала. Поэтому я верил, что моя невиновность очевидна. Просто где-то что-то перепутали. Не мог я быть преступником, заговорщиком, «врагом народа». Любому следователю это должно быть очевидно. Но почему-то очевидное для меня не было очевидно для следователя. Поступил донос, который можно было увязать с делом Ягоды, и это определило дальнейшую судьбу.
Крики и стоны избиваемых людей напрягали нервы с первого момента появления в этом месте. Первый же допрос потребовал сильнейшего напряжения воли. Следственная тюрьма круто перевернула жизнь: попавший сюда не был больше личностью, не был даже человеком, нас унижали, оскорбляли, били, растаптывали. Сомнений в виновности у следователя не было. Надругательство над личностью было хуже любой боли. Допросы чаще всего проводились ночью. Следователи вытягивали из измученных людей показания о фантастических заговорах.
В Бутырке ко мне подошёл сокамерник и стал расспрашивать, как и почему я сюда попал. Я буркнул что-то и не стал с ним разговаривать. Подумал: «Лезут в душу всякие».
Позднее я узнал, что он ювелир и зовут его Лев Наумович Близинский. Среднего роста, с округлым брюшком, широкий слегка приплюснутый нос, под большими удивлёнными глазами синяки. С первого взгляда внешность была так себе, несколько смешна. Однако, когда его большие глаза смотрели прямо, становилось понятно, что этот человек не только добр и чист, но в какой-то мере значителен и живёт своей внутренней жизнью.
На другой день после допроса Близинского привели под руки и бросили на пол. Теперь он ни о чём не спрашивал, а лежал неподвижно в углу камеры. Я поднял его и аккуратно уложил на нары, омыл его лицо водой. Несколько капель влил в рот. Отошёл и молча сел на свои нары.
Общение наше никак не развивалось. Мы в основном молчали.
После одного из допросов, когда я сидел, не поднимая глаз, и думал, как заставить следователя меня выслушать и поверить, Лев подошёл.