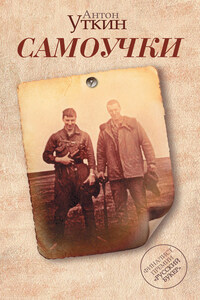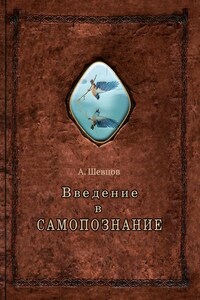Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.
Ф.И. Тютчев
Несколько лет тому назад я, еще не закончив образование, начал писать для одного модного журнала, выходившего под претенциозным девизом наподобие следующего: «Вы понимаете, что происходит». Надо оговориться, что ни тогда, ни позже как раз никто ничего не понимал из того, что творилось вокруг. Вчерашние школьники и отставные военные, товароведы и прорабы, превратившиеся вдруг в «крепких хозяйственников», воры вне всяких законов, сомнительные авторитеты и убежденные домохозяйки в мгновение ока наживали состояния; город лихорадочно реставрировался, а в раскрашенных граффити подъездах запахло сушеной коноплей. Шальные деньги кружили голову, и отнюдь не только тем, на кого просыпались сладостным и нежданным дождем. Они легко приходили в руки и исчезали тем легче, как дым. Их провожали рассеянными улыбками и о них не слишком сожалели. Все стало можно, все оказалось рядом.
Кухня, наша московская кухня, – этот «английский клуб» застоя, парламент молодости, средоточие умственной жизни, – превратилась вдруг в скучную комнату для приготовления пищи. Ароматы таящейся под спудом свободы, пряные, волнующие ароматы откровений, мистических эманаций, полетов мысли и души, сменили запахи импортных полуфабрикатов, а священный чай стали заваривать прямо в кружках – тоже импортных, толстых, как ноги слона или поленья, поставленные вертикально. Переселения, отъезды следовали один за другим бесконечной чередой, и старым друзьям нельзя было больше позвонить, набрав, к примеру, 241…, а требовалось путаться в мудреных кодах экзотических стран, то и дело рискуя угодить к девушкам, для которых нет, так сказать, заповедных тем. Либо приходилось старательно выводить на почтовом конверте что-нибудь вроде: «Улица полковника Райналя, Лион…» (все это, конечно, по-французски).
Появились круглосуточные услуги и не закрывающиеся на ночь кафе, танцевальные заведения, которые пышно именовали клубами. Там, коротая свободные вечера, веселилась молодежь, и в самый глухой час ночи, когда шаги прохожего на пустынной улице раздаются за километр, заведения были полны беспечными людьми. В воздухе, повитом дымом модных сигарет, реяли соблазны и предчувствия, и даже девушки здесь оценивали себя баснословно, словно были принцессами исчезнувших королевств. Неистовствовала музыка, и люди, большинство из которых никогда не покидали пределов кольцевой дороги, ощущали себя причастившимися всех тайн огромного мира, по-прежнему парившего в безбрежности темных галактик.
Мой редактор, такой же, как и я, молодой человек, – ниспровергатель устоев, которые, скажем прямо, пошли трещинами задолго до его рождения, и бунтарь, впрочем, в самом узком смысле этого слова, а заодно неистовый почитатель Набокова и Джойса, обрушивал на меня мутные потоки своих восторгов.
– Старик, – восклицал он, – ты только подумай! На десяти страницах описывается, как человек – не кто-нибудь, а человек – испражняется. И это прекрасно!
Как бы то ни было, я терпел подобные разговоры единственно потому, что обычно они скрашивались чашечкой-другой превосходного кофе, который в редакционном буфете умели готовить выше всяких похвал.
Кроме того, как это делают все редакторы, он частенько вымарывал из моих репортажей именно те строки, которые мне нравились больше всего, и заставлял вписывать другие, писать которые я не имел никакого желания.
Именно в это время редактор был одержим новой концепцией нашего журнала – его владелец выкупил старое название, под сенью которого бывшие хозяева, наследники великих диссидентов, в протяжении всех мрачноватых перестроечных лет насаждали демократию с той же страстью, с какой некогда император Юлиан