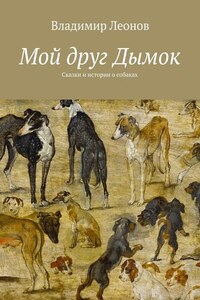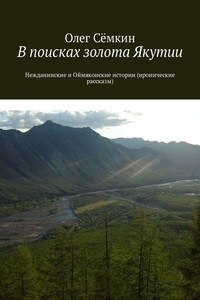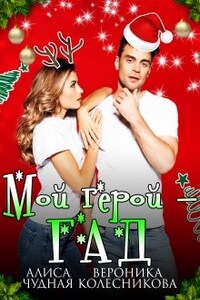Когда она умерла, земля встала дыбом. Словно дождавшись освобождения от надоевшей насельницы, испод кухни стремительно пророс всем, что веками таилось в придавленных недрах. Сквозь лопнувший пол лезла наверх трава, комья смерзшегося грунта, корни, камни, тряпки. Горбатилось нечто монолитное и темное, похожее на спину чудовища. Печь, столько испекшая шанег и рыбников, всегда гревшая в пазухе горшок с пшенной кашей или политую маслом картошку, развалилась надвое. В груде известки и кирпичных обломков синела щербатая верхушка огромного валуна.
Дверь в спальню валялась далеко внутри, точно выбитая пинком.
– Мне страшно, – прошептала Елена. Не понимая, куда и как поставить ногу, чтобы не провалиться, нужно ли здесь вообще двигаться, не утянет ли, она ухватилась за рукав сестры. – Может, уйдем?
Татьяна не ответила. Внимательно и настороженно смотрела на разгром. Было и страшно, и грустно, и неожиданно, и холодил восторг возможной схватки с чем-то. Казалось, если она крикнет – эй, что происходит? – горб в полу шевельнется, разбуженный. И разлетится всё по сторонам вместе с двумя изумленными женщинами. Быть убитой издыхающим жилищем почившей бабушки – не смешно ли? Прихлопнутой сосновыми половицами, которые они ребятенками усердно терли и намывали, не обидно ли!.. Всё, что она видела, оставалось вне разумения, возмущая и притягивая, как манит ныряльщиков глубина.
С осторожностью, опасаясь не столько свалиться, сколько потревожить чей-то перерыв в разрушительной работе, Татьяна пробралась в бабушкину спальню. Кровать исчезла. На голых, стенах, не осталось ни фотографий, ни знаменитой метровой косы, напоминавшей девочкам скальп из романов Майна Рида. Диван был на месте, даже с ящиками.
– Тяни, – велела она Елене.
– Боюсь…
– Заладила одно и то же, сорока! Тяни, говорю.
Внутри отыскался стеклянный гардеробный номерок с выжженной семеркой, самодельная фоторамка и крохотная деревянная трубка, прокуренная до дыры. Татьяна понюхала. От трубки терпко несло въевшимся табаком.
Задребезжали окна. Деревья на улице не шелыхались, но стекла звенели, будто их трясли. От желоба остывшей голландки пахнуло холодной сажей.
– Уходим. Стул возьми.
– Какой? – прошептала Елена.
– Сзади валяется.
За диваном лежал венский стул, с дырочками в отполированном многими задницами круглом сиденье. Схватив его, сестра помчалась вон.
Татьяна еще постояла на пороге, запоминая картину разгрома. Какая-то неведомая сила уничтожала дом так мощно и яростно, что сомнений не возникало: здесь и сейчас уничтожается память. Горб дорастет до скалы и окончательно, навсегда задавит камнем некогда живое и даже знаменитое место.
– Где же ты нагрешила, в чем напортачила, Екатерина Алексеевна? – подумала Татьяна и неожиданно поклонилась в пояс тому, что уже нетерпеливо ожидало ее ухода. Стекла тряслись вовсю, воздух потрескивал, от земли тянуло прелью. Трижды перекрестившись, она повернулась спиной и, с трудом сдерживая желание оглянуться, спустилась во двор. Забрала у растерянной сестры стул и поспешила в сторону людей и машин.
– Чувство, что там никогда и никто не жил, – догнала Елена. – Но ведь сорок дней! Месяц… Куда все делось?
– Разобрали.
– Старушечьи-то шмотки? У нее даже простенького телевизора не было. Книжки и разговоры за самоваром, и те – шепотом. Может, бомжи разворовали?
– Спроси что-нибудь полегче…
– Что с городом творится! Безлюдье, улицы не стрижены, не метены. Осталась ли тут какая власть? Я обезумела: сколько брошенных домов! А в них лампочки горят. Раньше о бомжах и не слыхивали. А теперь…