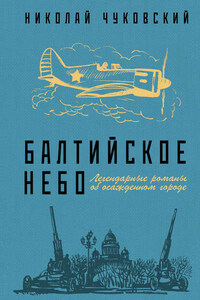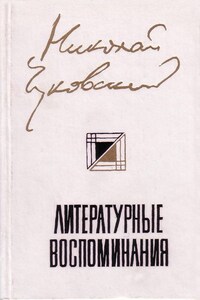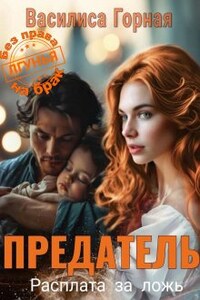По утрам, приходя к ней наверх за кипяточком, я всякий раз с любопытством оглядывал ее жилье – кухню и спальню.
Желтая зимняя заря смотрела через окна прямо в стену спальни.
Лихо глядел на меня со стены казак Кузьма Крючков, выжженный на дощечке.
Другой Кузьма Крючков был вышит крестиками на канве неумелой детской рукой.
На столе чернильница, сделанная из снаряда, рядом с ней ручка, сделанная из патрона.
На середине стола – резная рамка, а в ней – молодые глаза, ямочки на подбородке, кокарда, погоны, пуговицы и крестик на георгиевской ленточке.
А сколько этих фотографий с ненавистными офицерскими погонами, кокардами и пуговицами под Кузьмой Крючковым! Особенно ближе к углу, над кроватью.
Но не всегда крестики. И глаза не всегда молодые.
Случалось, иная из этих фотографий, сорванная моим плечом, падала на пол. На оборотной стороне каждой из них всегда было что-то написано, то карандашом, то пером. Почерк был разный: на одной – крупный, на другой – мелкий. Но надписей этих прочитать я не успевал – слишком уж быстро Галина Петровна подымала карточки с пола.
Я о ней слышал только плохое, но меня всякий раз тайно трогали ее ясные голубые глаза, окруженные желтоватыми морщинками.
Галина Петровна в тот год была еще, в сущности, молода, но лицо ее с подсохшими губами казалось уже истасканным и увядающим. Только глаза были у нее еще двадцатилетние, с чистыми белками, с голубизной, не начинающей выцветать. Маленькая, полная, она двигалась по полу легко и бесшумно, словно катилась.
Когда я входил, в глазах ее появлялось выражение робости, – вероятно, она знала, как мы к ней относились.
Я приносил с собой старый солдатский котелок Якова Иваныча – другой посуды у нас не было. Она доверху наливала его кипятком из потемневшего медного чайника, – струя, позолоченная зарей, казалась твердой. Светлые ее кудерьки – она мелко-мелко завивала волосы вокруг лба – становились влажными от пара.
– А я напьюсь и лягу спать, – застенчиво говорила она мне, рукавом прикрывая зевоту.
Так же, как и мы, в городе она была чужая, служила сестрой в военном лазарете и дежурила по ночам. Домой она возвращалась к утру.
Я привязывал котелок к полотенцу, чтобы не обварить паром руки, и спускался по лестнице в сени. Мороз в сенях был как на дворе.
Я стремительно отворял дверь в нашу комнату.
За дверью, в ободранной нашей комнате, грязно-голубой от махорочного дыма, меня поджидали оба мои сожители. – Яков Иваныч Потанин и Сашка Воронов – с кружками в руках.
На полу, на газете, лежал кусок хлеба – мебели у нас не было никакой. Рядом с хлебом – астраханская селедка, уже разрезанная на три части.
– Принес? – спрашивал Сашка и совал руки в пар, чтобы согреть пальцы.
– Надоело у нее одалживаться, – говорил Яков Иваныч, зачерпнув кружкой из котелка. – Придется свое хозяйство заводить.
И прибавлял, намочив усы кипятком:
– Офицерская сука.
Своего хозяйства нам завести так и не пришлось.
Когда я думаю о той зиме, прежде лиц и событий, прежде занесенных снегом заборов, осин, крыш, столбов я вспоминаю ощущение привычной, как боль, тревоги, не покидавшей нас до самой оттепели. Всю ту зиму колчаковский фронт медленно приближался к городу.
Мы трое – Яков Иваныч, Сашка Воронов и я – были чужие в этом кривобоком речном городке.
Впрочем, своих в городке давно уже не осталось: лесопромышленники с семьями перекочевали к Колчаку – в Уфу и в Омск, а лесорубы, пильщики и плотовщики ушли на фронт еще в ноябре и сидели с винтовками в снегу далеко на севере, на самом левом фланге наших армий.
Вокзал был за рекой, на том берегу.
Там тупиком кончалась железнодорожная ветка.
Оттуда, с вокзала, по речному льду, приходили вооруженные люди. Их лица были исколоты ветром. Они шли вверх по пустым улицам, через разгромленный рынок, мимо собора, где хранилась чудотворная икона, знаменитая на десять губерний, мимо вымороженных контор лесоторговцев. В исполкоме их кормили кашей. Каша была похожа на суп. Каша пахла рыбой. Но зато была горяча.